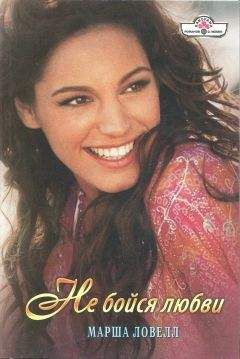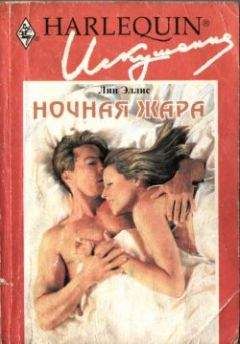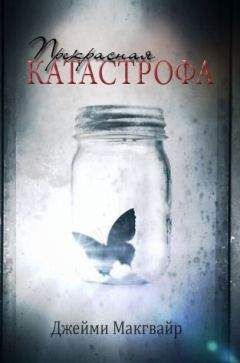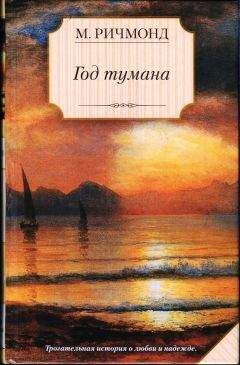Зиновий Давыдов - Из Гощи гость
Кузёмке и отоспаться не дали после обеда в этот день. Стал торопить Кузьму князь Иван — поскорей седлать, ехать во дворец государев, спросить там Петра Федоровича и отдать грамотку боярину в собственные руки. Да по дороге остерегаться — не обронить бы грамотки как-нибудь. Кузёмка обернул грамотку тряпкой, упрятал сверточек себе в колпак и натянул колпак на голову, укрыв им и уши и глаза. И вынесся Кузёмка со двора на улицу, стал виться по переулкам, запрокидывая лицо, поглядывая из-под нахлобученного колпака на выныривавшую из-за поворотов Ивановскую колокольню в Кремле. Но, не доезжая Чертольских ворот, подле часовни на распутье, Кузёмка сдержал коня.
Двери часовни были раскрыты настежь, в темной глубине ее теплились свечи, гроб был открыт, и с седла своего увидел Кузёмка девичий лик в золоте волос и в бумажном венчике на восковом челе. Вместе с синим дымком, что вился из кадила, шел наружу и звонкий голос, повторявший нараспев слова заупокойной молитвы.
У Кузёмки сжалось сердце от того, что увидел он здесь, от красоты человеческой, положенной в гроб. Осторожно снял Кузёмка с головы колпак свой, перекрестился и застыл в седле, но вдруг вздрогнул он, услышав позади себя блеяние козы, нелепое, неуместное, никак не идущее к печальному обряду в часовне: «Бэ-бэ-бэ-бэ… Мэ-мэ-мэ-мэ…»
Кузёмка обернулся и увидел стаю пахолят — прислужников панских, безусых пареньков в цветных кунтушиках и польских шапках. Разместились пахолята вдоль плетня против часовни, казали языки и скалили зубы, пересмешничали и кривлялись. Они уже не только блекотали по-козьему, а кто как горазд тявкали, выли, мяукали, ржали по-лошадиному, ревели по-бычьи.
Древний старик в посконном армячке выглянул из часовни; он замахал руками на пахолят, нагло глумившихся над русским обрядом, и пошел на них, ничего не видя сразу на свету, спотыкаясь на исчахших своих ногах. А пахолята стали метать в него камушки, и дед застрял посреди дороги, не зная, куда оборотиться, не понимая, откуда такая напасть. Но Кузёмка понял, и расправа у него была коротка. Не говоря ни слова, он рванул поводья так, что кобылка его, как змеей ужаленная, хватила с места и одним прыжком подскочила к плетню. Здесь Кузёмка ляпнул вдоль плетня шелепугоц своей, взвыли пахолята хором, мигом через плетень перекинулись и рассыпались меж деревьев.
— Поделом вам, пащенки! — крикнул им Кузёмка, но спохватился, вспомнив про письмо в колпаке у себя, бережно натянул колпак на голову и припустил во весь опор к Кремлю.
XXX. Черный возок и золотая карета
Кузёмка вернулся домой спустя час. А спустя еще час подкатил к Хворостининским воротам черный, ничем не приметный возок. И вышла из возка этого старица, а за ней полезли два мужика ярыжных, вошли они все трое в калитку, перемолвились со случившимся тут конюхом Жданом, погрозились псам дворовым и по тропке прошли прямо в поварню.
Аксенья с Антонидкою стояли спиною к дверям, раскрытым настежь: Антонидка прополаскивала в лохани тарелки и ложки с обеда, Аксенья вытирала их перекинутым через плечо полотенцем. И обе обернулись сразу, когда тень пала на пол от людей, загородивших двери.
Завидя старицу, Аксенья опустила руки, и оловянная тарелка, выскользнув из пальцев, завертелась по глиняному полу. И сама Аксенья опустилась в ужасе на пол и стала отползать от старицы, а старица, постукивая клюкою, наступала на Аксенью и приговаривала:
— Царевна!.. Аксенья Борисовна!.. Куды забрела… Дитятко родное… Уйдем отсюда!.. Уйдем… Негоже тут… Непригоже тебе быть здесь…
Но Аксенья все ползла по глиняному полу, по желтоватому праху, пока не забилась в угол и податься ей дальше некуда стало. Тогда она прокричала пронзительно и долго:
— А-а-а-а!..
И вслед за ней закричала Антонидка, заметалась по поварне, кинулась к дверям… Но мужики ярыжные сбили стряпейку с ног и, оглушенную ударом, сунули за печь. А старица, подобравшись к Аксенье вплотную, топнула ногой, клюкою стукнула, слюною брызнула:
— Замолчи, змея!.. Нишкни!.. А то я те в воду сейчас с каменем на шее!
Аксенья умолкла, только глаза она раскрыла немыслимо широко и замерла без движения, без дыхания. Ярыжные подняли ее с полу и понесли к воротам, живую или мертвую, того не ведали они и до этого не было дела им. И, когда хлопнула за мужиками калитка, князь Иван выглянул в окошко. Он только и увидел что Кузёмку посреди двора с разинутым ртом да старицу в черной однорядке, семенившую к воротам.
Тихо стало с той поры на хворостининском дворе. Днями солнце заливало нестерпимым светом пустое пространство между хоромами и житницей. По вечерам белёсый пар с озерков подстилался к окошкам работников, пустым и мутным, как бельма слепого. И Антонидка, не стерпев тоски, кидалась на лавку в подушку и начинала выть и присказывать, повторяя слышанное не раз на рынках, от странников, от калик перехожих, от старух убогих:
— Аксенья… царевна… малая птичка… белая перепёлка…
Но в поварню вбегал перепуганный Кузьма. Он зажимал рот Антонидке, он кричал на стряпейку, он увещевал ее:
— Уймись, Антонида… не накличь себе лиха… Твойское ли то дело? Уж и куды нам те лихие царские дела!
Антонидка перестала причитать, но выла еще подолгу тоненько и глухо в перовую свою подушку. И так прошло у них пять дней, а на шестой ясным утром подал Кузёмка князю Ивану оседланного бахмата, и князь Иван один, без стремянного своего, поехал со двора. Хоть и ранний был час, но людно было на улицах, а кое-где и протиснуться сквозь человеческие толпы не просто было князю Ивану. И только за Боровицкими воротами, уже в Кремле, дал всадник шпоры коню, чтобы хоть сколько-нибудь наверстать упущенное в уличной давке время.
Площадка перед дворцом была пуста, только конюхов кучка держала под уздцы царского карабаира. Князь Иван, оставив бахмата своего за воротами, побежал к крыльцу, шарпая луженою шпорою по траве. Но Димитрий и сам уже спускался с крыльца. Он был одет сегодня просто: суконный емурлук и суконная же мурмолка[112], только тесмяком бесценным опоясано было по стану. Лихо вскочил он в седло и на караковом карабаире своем двинулся к воротам. И карабаир тоже убран был немудро: ни обычных бубенчиков золотых, ни гремячих цепей, ни жемчужной кисти на шее.
За воротами и князь Иван сел в седло и поехал рядом с Димитрием кривоколенными улками кремлевскими, то и дело перегороженными боярским ли двором, монастырским подворьем, либо приказной избой. Точно голубятни, лепились там одно к другому всякие прирубы, чердаки, заклети, звонарни. И солнце золотое, как шелковистой кисеей, окутало всю эту груду бревен и теса.
За Неглинной речкой к Можайской дороге — опять толпы людей, и Димитрию с князем Иваном пришлось взять в объезд. Ямскими слободами выехали они к Дорогомилову и здесь стали за деревьями, не узнанные никем.
А по дороге уже проносились в московскую сторону верховые, ударяя плетками в маленькие наседельные литавры, протягивая плетками же всякого встречного, кинувшегося прочь не слишком скоро. Стрельцы конные с луками и колчанами строились по дороге. На зеленом лугу разместились польские песенники — целая сотня голубых жупанов[113]; они-то и грянули, когда от Кунцева, еще издалека, пошли к городу на рысях гусары, сверкая на солнце золотыми драконами на булатных шлемах. И песня польских людей показалась знакомой князю Ивану. Да это пан Феликс наигрывал на хрустальной своей свирёлке, припевая и притопывая:
В каждом часе, в счастье, как и в несчастье,
Я буду тебе верен.
И заодно с песнею этой вспомнил князь Иван поросший лопухами двор пана Феликса, где не был князь Иван уже больше года; вспомнил и латынь, которую втолковывал когда-то в трухлявом «замке» своем мудролюбивому княжичу беспечальный шляхтич; и Анницу вспомнил князь Иван и Василька… Но тут Димитрий вцепился в рукав князю Ивану. Он был бледен, рыжекудрый царь, и пухлые губы алели на лице его еще ярче, а большая темная бородавка у правого глаза была словно насажена на желтоватую кожу. Князь Иван понял, отчего таким внутренним волнением охвачен Димитрий, от какой причины застыла на лице этом улыбка, странная и неподвижная, как у куклы-потешки.
Уже прошли гайдуки[114] польские с флейтами своими, проехала тысяча человек московских людей и еще и еще люди и кони, когда, позванивая хрустальными подвесками, развевая по ветру ленты и перья, стала наплывать с гати на лугу огромная стекольчатая, вызолоченная по ребрам карета. Двенадцать серых жеребцов волокли это дивное диво на золотых колесах, обсаженное по кровле двуглавыми орлами, обитое внутри красным бархатом, устланное парчовыми подушками. Не для простого земного создания была, по-видимому, предназначена эта столь украшенная колесница. И впрямь: в карете сидела на троне затянутая в шелк Марина Мнишек, царская невеста, ястребиноносая, с миндалевидными глазами, в сквозном жемчужном венце поверх черных, гладко уложенных волос.