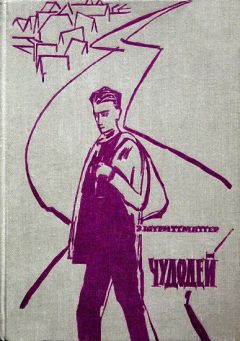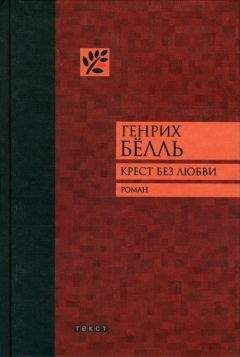Эрвин Штриттматтер - Тинко
Мы облепили снаружи окна трактира. Мне-то ничего: на мне теплое пальто, мне никакой холод не страшен. Часто трактирщик Карнауке завешивает окна, чтобы в зал никто не подглядывал. Но у нас внутри есть свои люди. Они нам всегда немного отодвинут занавеску. А те девчата и парни, которые последний год ходят в школу, получают от нас вперед яблоки и конфеты: это чтоб они нам через год не забыли отодвинуть занавески. Только когда в трактир приходит учитель Керн с женой, мы не торчим под окнами. Он, правда, ничего нам не говорит, не наказывает нас, он просто целую неделю молчит. Скажет только самое необходимое и все ходит, ходит, а у самого глаза грустные-грустные. Вот это самое страшное. Большой Шурихт и тот такого не выдерживает. Хорошо, что учитель Керн не очень-то часто бывает на всяких балах.
Кто-то вдруг хватает меня за ворот и оттаскивает от окна. Это Фимпель-Тилимпель. Откуда он взялся? Ведь минуту назад он стоял еще на сцене и дудел в свой кларнет.
Истрачен весь задаток,
А за тобой остаток.
Скорей мне денег дай,
Машину забирай, —
говорит Фимпель.
— Не дам я тебе больше денег, Фимпель-Тилимпель! Ты моим врагам хотел продать велосипед. Всё, хватит теперь! Отдавай задаток, а то я дедушке скажу!
Фимпель-Тилимпель наклоняется ко мне. Меня так и обдает водочным перегаром.
Узнает дед про внучка —
И будет внуку взбучка.
Совсем не рад он был,
Что ты в союз вступил.
— Ну и рассказывай! Пусть злится, — отвечаю я.
Но на самом-то деле я уже так не думаю. Дедушкина оплеуха понемножку забылась. Мне неохота снова скандалить с ним. Но все-таки я говорю Фимпелю-Тилимпелю:
— Можешь рассказывать дедушке что хочешь, задаток он с тебя все равно потребует.
Фимпель, ни на минуту не задумавшись, отвечает:
Наш пионер давно
Подглядывал в окно.
Да, Вуншу утешенье
Такое поведенье, —
и пропадает в темноте. Я спрыгиваю с окна. Покоя моего как не бывало. Всякие мысли налетают на меня, будто мошки. Значит, Фимпель всегда был таким фальшивым? Раньше-то я смеялся над ним, а сейчас готов плакать. Кто же посадил в него фальшь? Точно корень пырея, она всего Фимпеля обвила. А ведь он правду говорит. Я тоже слышал, что пионеры дали зарок не подглядывать в окна. Но я же только один месяц как пионер. Разве я могу все знать? Нет, не могу. Но ведь чуточку-то я уже знаю. Значит, я нарушил пионерский зарок. Теперь они не будут мне давать книжки читать! Пригнувшись, я бегу прочь. Если меня видел какой-нибудь пионер, я тогда пропал!
Оказывается, вовсе и не пропал. Я пошел к Пуговке и сказал ему, что я согрешил против пионерской заповеди.
— Какой еще заповеди? — спросил он меня.
— «Не заглядывай в окна ближнего своего». Правда ведь? «Бойся господа бога и возлюби его…»
— Хватит, хватит! — Пуговка затыкает себе уши. — У нас нет никаких заповедей. У нас есть десять пионерских законов. На, возьми. — И Пуговка дает мне листок. На листке напечатаны все десять пионерских законов.
— А я-то думал, вы всё больше насчет веры в бога стараетесь, Пуговка. Я ведь только чуть-чуть посмотрел на маленького Препко. Он себе горб выправил.
— Он тоже плясал?
— Да. Он с Кэте Кубашк по кругу скакал.
— Больше ты ничего не знаешь?
— А что мне еще знать?
— Я-то думал, ты подучился и теперь стал умней.
— Нет, значит.
— А мы скоро… мы скоро свои пионерские танцы устроим. А разозлимся, так и свой маскарад.
— А это что такое?
— Ну в масках когда все.
— Настоящий?
— А ты думал!
— Я тогда в представлении буду выступать.
— Как же ты это будешь выступать?
— Я надену свой новый костюм и скажу подряд все стихотворения, какие знаю.
Глава двадцатая
Вот тебе и раз! Уже опять весна. Правда, на дворе еще снег, но он мокрый и липкий. Весна прикоснулась к нему и заворожила. Солнышко сияет, а снег плачет, потому что ему надо уходить. Он липнет к ногам и просится в дом. К деревянным подошвам туфель пристают большие комья. Но никто его не жалеет. Перед тем как войти в комнату, все его стряхивают. Ты, снег, лучше поскорей бы стаял и хорошенько напоил своей водичкой озимые!
В садике синичка разучивает свою песенку. Всю зиму песенка пролежала у синички глубоко в зобу под теплыми перышками. Теперь она просится на волю. «Ни-ни-ви! Ни-ни-ви!» — поет синичка. Черные дрозды веселятся вовсю. Они стали разборчивыми и не едят, что я кладу им в кормушку. В курятнике куры кудахчут. Бабушка проверяет, не видны ли у них уже красные гребешки: «Показался гребешок — приготовь свой кузовок!»
Но курам нет никакого дела до бабушки. За всю зиму они не снесли ни одного яйца. Когда наш солдат еще жил с нами, он кур зимой не выпускал. В курятнике он устроил большое окно и застеклил — это чтобы курам зимнее солнышко тоже светило. Он подвесил там свеклу на веревочке, а куры подпрыгивали, чтобы достать ее, и так сами согревали себя. Когда он кормил их, он зерна высыпал прямо на соломенную подстилку. Курам приходилось выбирать зернышки из соломы и скрести лапками. Это тоже их согревало. Жизнь у кур была тогда веселая, и они неслись и зимой.
Но дедушка новую русскую моду ни во что не ставит:
— Этого еще не хватало! Кур баловать! Пусть на дворе себе корм ищут. В балансе оно что получается? Яйца только тогда хороши, когда нам их курица даром дает. Да если мне с ними еще возиться, кормить их и все такое прочее, лучше я сам сяду и буду нестись.
Но дедушка нестись так и не стал, куры — тоже. Кузовок, в который бабушка собирает яйца, всю зиму пустовал в кладовой.
Заходит бургомистр Кальдауне и вежливо напоминает нам:
— Вы за первые два месяца отстали со сдачей яиц.
— А ты приходи к нам вместо петуха — может, куры и поумнеют, сами зимой на сдаточный пункт яйца понесут.
— Краске, прекрати болтовню!
— Да подите вы все…
На теплынь повылезли и жуки-древоеды. Они снова шуршат в стропилах. Дикие гуси пролетают над деревней. Я слышу их, и мне делается беспокойно, словно что-то точит меня. Мне тоже хочется летать высоко-высоко и вместе с дикими гусями носиться под самыми звездами. Вот в стихотворениях все про грусть-тоску говорится. Может быть, это она и точит меня сейчас?
Отчего это я проснулся? Вроде кто-то постучал к нам в дверь… Да, вот теперь хорошо слышно: кто-то стучит. Корова, что ли, у соседей отелилась? Дедушка встал уже? Нет, в доме все тихо. Вот опять стучат, только громче. Теперь слышно, как барабанят по окну горницы, где спят дедушка с бабушкой. Глухо доносится чей-то голос, и в доме сразу поднимается такая суматоха, шум, гам, что, кажется, вот-вот рухнет потолок. Слышно, как бабушка кричит:
— Господи Исусе, где же это моя нижняя юбка?
Значит, у нас пожар? Я вскакиваю с постели. Может, уже рига горит, а я тут лежу, прохлаждаюсь!
Нет, не пожар. Дядя Маттес приехал. Он хватает меня прямо как я есть, в рубашке, поднимает на руки и тискает:
— Сынишка Эрнста? И такой большой уже?
Бабушка сидит на полу посреди комнаты и плачет, закрыв лицо подолом. Дальше ее ноги не донесли.
— Довел господь дожить! Теперь и на погост пора! Пусть ангелы господни порадуются, что старуха Краске к ним пожаловала! Вот где я попляшу: вы тут подумаете — на небесах карнавал справляют.
Дядя Маттес поднимает бабушку с пола. Она противится, но он все равно относит ее в горницу и укладывает в постель.
— Да пусти ты меня! Пусти, родной! Мне тебя накормить надо… Небось изголодался там.
Но дядя Маттес вовсе не изголодался. Лицо у него красное и здоровое. Щеки лоснятся. Дядя Маттес и дедушку поднимает на руки, точно куклу.
— Ай-яй-яй! — бормочет старик. — А мы не такие легкие, как ты думаешь. Пятьдесят моргенов… пятьдесят моргенов под плугом. Поместье. Маленькое поместье…
Дяде Маттесу нет никакого дела до пятидесяти моргенов. Он сажает дедушку на диван и снова хватает меня:
— Где твой отец живет? Папка твой где? Далеко?
Никто не отвечает дяде Маттесу.
— А Эрнст здоровый вернулся?
Я смотрю на дедушку. Дедушка шмыгает носом и смотрит в пол. Бабушка отвечает за нас:
— Да-да, Эрнст… здоров… Он… да, наверно, здоров. Женился он.
— Опять женился? Ну и как? Хорошая ему жена досталась? Красивая?
— На улице-то тепло? Тает? — спрашивает дедушка.
— Где он живет? Эрнст где живет?
— Вот теплая погода установится, мы и овсы посеем.
— А малыш у них еще не родился?
— Нет. Меня срамить не стали, — говорю я.
Дядя Маттес не сидит, задумавшись на припечи, как наш солдат. Утром он только раз прошелся по двору, мельком заглянул в хлев и исчез.
— Свиней-то он хоть видел? Все четырнадцать штук? — спрашивает дедушка.