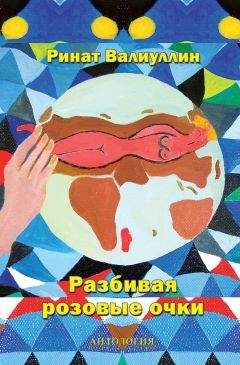Давид Гроссман - Бывают дети-зигзаги
Они и впрямь встретились на небесах.
Шаг, еще шаг. Канатоходец почти дошел до края, того, что над крышей шоколадной фабрики. Отец пытается встать, но страх прижимает его к стреле. Он плюет на гордость и начинает ползти. Животом он чувствует, как отзывается металл на ее шаги. Они отдаются и в его теле — и это приятно, несмотря на опасность. Канатоходец на мгновение поворачивает голову — и видит прижавшегося к стреле преследователя. Зоара улыбается, уважая его смелость и презирая его позу… Так оно и было? Или я все придумал? Не важно. Будем считать, что так было. И по сей день, проезжая мимо шоколадной фабрики, я вижу этих двоих на стреле огромного подъемного крана. Они парят над городскими огнями, над полицейскими, и тоненькая паутинка родства протягивается от него к ней, и, может, именно из-за этой паутинки Зоара ускоряет шаги, почти бежит, и мой отец ползет быстрее, но Зоара успевает уже добраться до края стрелы, до крыши шоколадной фабрики.
— И, добравшись до крыши, она прыгает!
— Но это высоко! — засомневался Феликс. — Может, четыре метра высоты.
— Она все равно прыгает! — настаиваю я. — Ей ничего не будет.
— Она действительно всегда приземлялась на ноги, — изумленно бормочет Феликс.
— Была ночь. — Я уже не могу остановится, рассказ выплескивается из меня, из точки на лбу: — На фабрике никого не было, и Зоара побежала туда.
Она бежит, ищет выход, мечется туда-сюда по огромному цеху, появляется и исчезает, все это я видел, будто перышко щекотало мне мозг, ту зону, которая отвечает за воображение, но на этот раз я не врал, это была моя история, она теснилась во мне, как клубок, она воскресила Зоару, снующую между машинами, между емкостями с шоколадом, погруженными в сладкий сон. Вот она останавливается и, не сдержавшись, засовывает в шоколадную массу пальчик. Облизывает, смеется.
Тяжелый стук: на крышу фабрики приземляется крепкое тело. Полицейский. Единственный и неповторимый. Перекатывается на спине и, выругавшись, бросается с крыши в цех. Осторожно ступает. Держит наготове пистолет. Осматривается. Ищет преступницу. Чутье его не обманывает: если горячо в животе, возле пупка — преступник где-то рядом. В животе уже горит, и жар расходится по всему телу.
— Эй, парень! — кричит мой отец, и эхо, пропитанное запахом шоколада, перекатываясь, вторит ему. — Фабрика оцеплена. У тебя никаких шансов. Руки вверх, выходи и не делай резких движений.
Эхо стихает, и наступает тишина. Отец осматривается. Шоколадный дух забивает ему нос. Может, на мгновение, на один вздох он вспоминает себя в детстве на такой же отцовской фабрике, между мешками с сахаром и мукой. Бисквиты и шоколад, м-мм! Но он отгоняет эти мысли. На работе нельзя предаваться воспоминаниям, каждая ошибка может стать последней. Он медленно движется вперед, поводя пистолетом.
И что дальше? Что теперь? Фантазия моя вдруг отказывает. Точка во лбу потухает. Черно-красный занавес падает на мое воображение.
— А дальше она в него стреляла, — закончил за меня Феликс.
— Стреляла? — задохнулся я. Я даже не подумал, что у нее был пистолет. — Выстрелила в папу?
— В плечо. Прошу извинения. Я должен говорить: она никогда в своей жизни не стреляла из пистолета. Муху не могла убивать! Но как раз с твоим отцом ей пришлось пускать пулю. Может, так, для смеха, а может… А, не знаю.
— Может — что?.. — Я хотел, чтобы он закончил.
— Может, почувствовала, что он опасен для нее, — подхватила Лола. — Не как полицейский — как мужчина. Почувствовала, что должен сыграть важную роль в ее судьбе, и испугалась?..
Я прилег на коляску мотоцикла. Лет двести мне понадобится, чтобы переварить это все. Лола шепнула что-то Феликсу, и он подергал себя за нос. Над нами пролетел самолет. Антенна над зданием алмазного центра помигала ему красным. Пуля на цепочке прохладно перекатилась у меня под рубашкой. Из тела моего отца. Выпущенная моей матерью. Всю мою жизнь она была со мной, а я и не знал.
— Как стрела Амура, — шепнула Лола. — Твой отец тут же в нее влюбился.
— Он слышал, как она смеялась, когда стреляла, и понимал, что это девчонка, — добавил Феликс.
Отец замер, ошеломленный. Схватился за плечо, пытаясь остановить кровь. Эта боль, наверное, сравнима с той, как если бы тебя боднула корова.
— Ты женщина? — спросил он изумленно.
Она снова рассмеялась своим заливистым смехом, и эхо подхватило его. И снова выстрелила, но на этот раз не попала.
— У тебя нет никаких шансов! — крикнул ей отец и улыбнулся, несмотря на боль.
На этот раз выстрел разбил лампу у него над головой. Отец увернулся. Спрятался за кучей мешков с кофе. Еще выстрел. Поток душистых коричневых зерен едва не сбил отца с ног. Он сделал шаг назад. Пригнулся. Выстрел. Он сосчитал, сколько пуль она уже потратила. Знание — сила. Но именно здесь знание уступило сердцу.
Это длилось целую вечность. Она смеялась над ним, пряталась за машинами, забиралась на подъемники, показывала ему язык из-за производственной линии моих любимых «А ну-ка, отними!», махала из-за мешков с сахаром, а когда он мчался туда, исчезала и появлялась в противоположном углу и снова стреляла в него, предостерегала, играла с ним.
А он все улыбался. Несмотря на боль.
— И тогда между ними все началось, — с внезапной уверенностью поведал я своим двоим слушателям. — Тогда она начала смешить его.
— Верно, — подтвердила Лола. — Если она начинала дурачиться, никто не мог устоять.
Только она и знала, как его рассмешить.
Бедная Габи.
— Один раз, когда мы с ней были на Ямайке, — вспомнил Феликс, — ее выбирали королевой смеха тысяча девятьсот пятьдесят первого года! Три тысячи долларов она получала только за свой смех!
— И так они смеялись на пустой фабрике. — Я тут же представил, как они смеются, молодые, веселые, не преступница и ее преследователь, а просто мужчина и женщина, и по пустому цеху разносятся ее заливистый смех и его ржание, а я ведь никогда не слышал, чтобы он хохотал вот так, от всей души. — И вдруг… — Может, именно в тот момент на небесах и решили, что я стану писателем. — И вдруг, пробегая по подоконнику, она споткнулась обо что-то и упала…
— И?.. — хором спросили Лола и Феликс.
— И прыгнула вниз…
— И?..
— И прыгнула в резервуар с шоколадом! — с тайной гордостью закончил я. Длиной и шириной в три метра. И в два метра глубиной. С медленно вращающимся перемешивающим винтом. Я знал размеры всех резервуаров в главном цехе. У самого большого Габи обычно застывала на несколько минут, смотрела растерянно и вздыхала. А я-то, глупый, думал, что она, как и я, мечтает нырнуть в шоколадное море.
— И отец бросается за ней прямо в форме, чтобы спасти, и изо всех сил бьет руками по густой шоколадной жиже. — Я вещал, точно спортивный комментатор.
И вдруг замолчал.
Я вспомнил, что отец не умеет плавать.
— Точно, — одобрил Феликс. — И тут же начинает потонуть! — добавил он издевательски. — Видали, какой полицейский? Потонул в шоколаде!
— Зато Зоара умела плавать, — проигнорировала его Лола, — и тотчас же поймала его за чуб и потащила за собой к краю резервуара, к лестнице… Уф! Тебе, наверное, тяжело и слушать, и рассказывать?
— Да, — согласился я. — И да, и нет.
Шоколад заливает отцу глаза. Форменную куртку. Пистолет. Шоколад застывает и мешает двигаться. Холостяцкое его сердце бьется, как барабан. Выходит, родилась наконец женщина, которая подходит под его условия, которая и поймала, и подстрелила его — в буквальном смысле… А Зоара смеется, запыхавшись, и по-девчоночьи щупает его мускулы, несчастная, одинокая, с ног до головы, до острых ушек покрытая шоколадом, стекающим на пол. Горький миндаль в шоколаде.
— Как две шоколадные фигурки, — шепчет Лола. — Полицейский и преступница.
— И оба смеются, — буркнул Феликс.
Как мой отец хохотал!..
Бедная Габи.
Сколько бы шоколада она ни съела, ей никак не удается его рассмешить.
— Руки вверх, — сказала фигурка полицейского.
Он сосчитал выстрелы и знал, что у Зоары закончились пули.
— А ты мне нравишься, — засмеялась фигурка преступницы и сняла пальчиком каплю шоколада с его носа. — Никогда не встречала таких, как ты. Если попросишь как следует, я, пожалуй, выйду за тебя замуж.
— Руки вверх, я прошу тебя, — повторил отец. — Ну!
Зоара расхохоталась: думала, что это шутка.
ГЛАВА 26
ЛЕД И ПЛАМЕНЬ
Мы снова понеслись. Оставили позади шоколадную фабрику и направились на север. Я не знал, куда именно. Не спрашивал. По дороге я сменил одежду Зоары на собственную. Мне больше не нужны были ее вещи. Она уже и так поселилась во мне.
Мимо проносились фонари. Редкие прохожие смотрели нам вслед. Странная мы были троица: Феликс в шлеме, склонившийся вперед, как всадник на скаку, Лола с распущенными волосами и ребенок — что он делает на улице в столь поздний час?