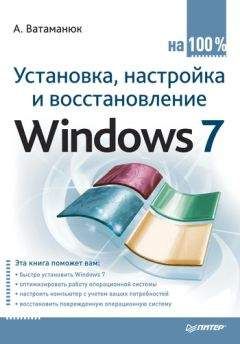Евгений Астахов - Наш старый добрый двор
Было ему всего два года. Через пять он окончательно забыл лицо матери, запах ее рук и волос, ее глаза и голос. Отец еще иногда приходил к нему во сне — громкоголосый, широкоплечий, с дымящейся трубкой в белых зубах. Фриц всякий раз радовался этой встрече, но утром, проснувшись, никак не мог вспомнить, кто же снился ему в эту ночь…
В семь лет Фриц уже «пимпф»[45]. В этот же год в берлинской тюрьме был казнен Эрик Верцлау, коммунист-подпольщик, отец Фрица.
Потом казнили мать, Эльзу Верцлау, в той же женской тюрьме на Принц-Альбрехтштрассе, куда когда-то привезли в черной гестаповской машине двухлетнего Фрица.
Фридрих Нойнтэ с аппетитом ел по праздникам «айн-топф»[46], пел со всеми свою любимую «Lang war die Nacht[47]», а ложась спать, обязательно бросал взгляд на вырезанную из журнала картину «Прекрасная смерть Герберта Норкуса». На ней юный Герберт с лоскутком флага, зажатым в высоко поднятой руке, падает на мостовую — он насмерть сражен пулей коммуниста. Тот пытается бежать, но возмущенные прохожие, олицетворяющие на картине немецкий народ, не дают ему скрыться, уйти от возмездия.
К Герберту спешат друзья. Черные флажки юнгфолька и красно-белые гитлерюгенда трепещут над их головами.
Фриц Нойнтэ очень любил эту картину. Она всегда напоминала ему об отце. Ведь его тоже, как Герберта Норкуса, убили коммунисты, а боевые друзья в коричневых рубахах, склонившись над бездыханным телом, поклялись мстить врагам Германии, и слезы горя стыли в их голубых глазах.
Так рассказывал Фрицу воспитатель. Его голос всякий раз начинал дрожать, когда он добирался до голубых арийских глаз штурмовиков, в которых стыли прозрачные, как горный хрусталь, слезы.
А Фриц видел отца, широкоплечего и русоголового, лежащего с раскинутыми руками поперек мокрого от дождя тротуара…
В тринадцать лет Фриц стал функционером гитлерюгенда, в четырнадцать — бойцом истребительного отряда. И сам фюрер приколол ему на грудь высший знак солдатской доблести — Железный крест.
Теперь уже никто не смел называть его Фрицем Девяткой. Он стал знаменитостью не только в своем отряде; «Берлинский фронтовой листок» назвал Фрица Нойнтэ бесстрашным истребителем большевистских танков и славным защитником цитадели великого рейха. Ни мало ни много…
«Если этот хрупкий, болезненный мальчик, преисполненный великой сыновней любви к фюреру, сумел остановить три стальные махины, — писалось в «листке», — то разве могут взрослые мужчины, солдаты великой Германии, хоть на секунду усомниться в своей силе, в своей непременной победе над вконец выдохшимися, обескровленными нашей обороной русскими?! Окажись среди нас хоть один такой трус и предатель, его тут же постигнет суровая кара от рук своих же товарищей по оружию, его ждут позор и веревка!..»
У Фрица Нойнтэ никогда не было друзей. Пока он был просто Фрицем Девяткой, товарищи дразнили его, дело часто кончалось дракой, и так как он всегда оказывался в меньшинстве, то доставалось только ему. Теперь, когда Фриц неожиданно для всех прославился, бывшие враги превратились в льстивых завистников. Они всячески липли к нему, рассчитывая погреться в лучах чужой славы; и даже отрядный фюрер, долговязый Гуго Майер, сын лейпцигского аптекаря, стал говорить о Фрице.
— Нойнтэ мой лучший друг! Мы побратались с ним перед лицом смерти там. — Он многозначительно тыкал пальцем куда-то вдаль. — Это произошло в ту ночь, когда на нас перли русские танки…
— Да что ты врешь? — не выдержал однажды Фриц. — Я был один! А ты с полными штанами улепетывал по ходу сообщения, бросив свой фауст. Я был один, и это знают все!..
Он действительно был один тогда. Танки появились как-то неожиданно, сразу, словно выросли вдруг из развороченной, дымящейся земли. На какую-то секунду Фриц оцепенел от ужаса, а потом, сам не ведая, что делает, выстрелил в упор, не целясь. Танк вспыхнул и, вздыбившись, остановился. Горячая волна ударила Фрица в грудь. Он упал на дно траншеи, пополз по ней на четвереньках. Рука натолкнулась на брошенный Майером фаустпатрон. Фриц схватил его, точно в этой заляпанной грязью стальной трубке было спрятано спасение от окружавшего грохота, огня и гари.
Еще один танк навис над бруствером траншеи; мгновение — и все рухнет вниз, сомнет, раздавит, уничтожит. Фриц втиснул свое обмякшее от страха тело в боковую нишу, зажмурил глаза, дернул спуск. И потерял сознание.
Третий танк повернул и, строча на ходу из пулемета, пошел в обход. Пули цокали по бетонной стене стоявшего за траншеей дота, вздымали фонтанчики грязи на бруствере, впивались в мешки с песком. Но Фриц не видел и не слышал этого — он лежал в глубине ниши маленьким жалким комком в перепачканном мокрой глиной мышином мундире.
Третий танк обошел траншею стороной, но и его приписали Фрицу Нойнтэ, героическому защитнику подступов к германской столице.
* * *С востока подход к выбранному для тайника месту прикрывала почти отвесная горная гряда, густо заросшая лесом. Единственная узкая дорога шла по расселине, серпантином взбираясь на плоское плато, тоже лесистое и безлюдное. Автомобильная дорога проходила низом с западной стороны плато. Вальтер пометил на карте место, где должны будут остановиться восемь «цуг-машин»[48] с грузом. До штолен, в глубине которых подготовлены тайники, ящики придется переносить вручную.
Листки бумаги были испещрены цифрами — Вальтер рассчитывал все с предельной пунктуальностью: метры, минуты, килограммы. Необходимо было соблюсти абсолютную точность, заранее учесть любые неожиданности, разработать запасные варианты.
Дорогу, ведущую к плато с востока, можно легко перекрыть небольшим заслоном. В этой теснине батальон способен удержать дивизию. Но все дело в том, какой батальон? Люди стали ненадежны, даже эсэсовские части потеряли былую стойкость; каждый мерзавец норовит сберечь шкуру, надеясь затеряться в послевоенной неразберихе, прикинуться овцой, которая отродясь не носила никакого мундира, разве что фолькштурмовский[49].
«Как можно меньше людей… — думал Вальтер, просматривая свои расчеты. — Как можно меньше! Не должна оставаться куча свидетелей, иначе вся эта затея не стоит и выеденного яйца… И в то же время кто будет таскать наверх ящики, кто блокирует шоссе на время разгрузки «дуг-машин», а потом отгонит их подальше и уничтожит. Кто?!»
Он выписал на отдельный листок конечные результаты подсчетов. Остальные бросил в камин. В полупустом каменном доме было холодно и сыро. В вестибюле медленно прохаживался часовой, цокал подкованными сапогами по выложенному мраморными плитами полу. Это цоканье, мерное и какое-то зловещее, разносилось по всему дому, раздражало Вальтера. Открыв тяжелую дубовую дверь, он вышел из кабинета, крикнул часовому:
— Ты можешь не топать, как лошадь, черт тебя побери вместе с твоими сапогами!..
«Нервы сдают, — подумал он, возвращаясь обратно. — Никуда не годятся, этак можно проиграть последнюю ставку. А проиграть ее глупо…»
На столике у дивана с приготовленной постелью лежали стопка газет и последние сводки. Вальтер бегло просмотрел их. С каждым днем положение все безнадежнее, надо спешить. В «Берлинском фронтовом листке» его взгляд задержался на фотографии: фюрер награждает бойцов истребительного отряда гитлерюгенда.
Напряженные мальчишеские лица, автоматные ремни, наброшенные на тонкие шеи, и сами автоматы, словно большие черные игрушки.
«Вот кто закроет меня с востока! — Вальтер натянул снятые уже было сапоги, застегнул пуговицы мундира. — Как мне раньше не пришла в голову эта мысль? Батальон таких вот восторженных сопляков намертво встанет перед русскими и будет стоять сколько потребуется. Особенно если им напомнить о Фермопилах, чтоб они вообразили себя спартанцами «третьего рейха». И, самое главное, они ничем не станут интересоваться. А если кто и уцелеет случаем, то это никакой не свидетель…»
Он подошел к телефону, вызвал шофера и сопровождающих мотоциклистов.
Через несколько минут, блеснув синими щелками фар, машина Вальтера вырвалась на ночное шоссе. За ней, треща моторами, неслись четыре мотоцикла с сонными автоматчиками в колясках.
Марш на Запад
Дивизию передислоцировали ближе к фронту. Она все еще находилась в резерве, что очень огорчало Иву.
— Мы так и проторчим в третьем эшелоне до конца. Такие бои за Берлин идут, а до нас только отзвуки канонады доносятся. Сидим, слушаем лекции Минаса, а кто-то в это время воюет за нас.
Минас провел ротное комсомольское собрание с повесткой дня «Немецкий народ, его история, культура и искусство».
Доклад он делал сам, готовился долго с присущей ему добросовестностью. Даже выучил наизусть два стихотворения Гёте на немецком и на русском языке.