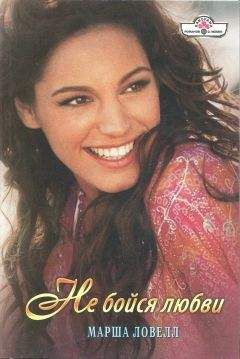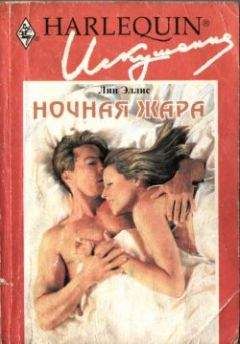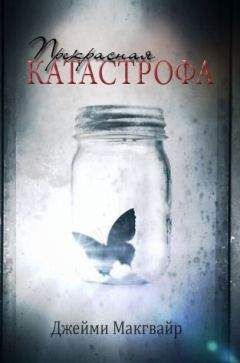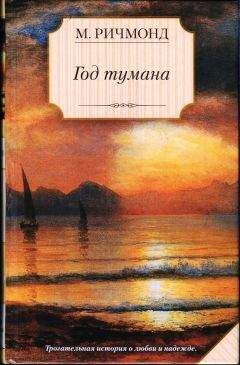Зиновий Давыдов - Из Гощи гость
— Кузьма, — молвил он, не переставая бегать по светлице, ползать по полу, тянуться к полке и совать в свой мешок всякую исписанную бумагу, какую ни попало. — Кузьма, любимиче-друже! Котому эту и писание, которое в котоме этой видишь, снеси Ивану Андреевичу, в руки ему. Не оброни, борони бог, чего из котомы. Скажи поклон князю. Скажи, не дописал ему тетрадей Григорий-дьякон, нарицаемый Отрепьев. Писал-де Григорий худым умом, грешный человек, коли бывало и с хмелю. Где сплошал, где ошибся, где написал грубо; так читал бы князь, исправляя, себе в сладость и Григория не кляня. Вот, Кузёмушка… Эку котому нагрузил тебе!..
Кузёмка взял из рук Отрепьева мешок, и дьякон, вздохнув облегченно, точно гору с плеч сбросил, сунулся за однорядкой. Но на колке чернел один только дьяконов колпачок, а однорядка словно и не висела здесь никогда. Отрепьев развел руками, улыбнулся, натянул на голову колпачок и в одной ряске комнатной пошел прочь из избы.
XIX. Отрепьев отправляется в ссылку
Он стал будто ростом меньше от государевой опалы, дьякон Отрепьев, когда зашагал по двору, по мокрой еще траве, к возам, стоявшим наготове у ворот. Половину лица залепила ему расплывшаяся загогулина, а по другой половине струилась жалкая улыбка, выбегавшая из-под брови и прятавшаяся в серебряной проседи дьяконовой бороды. Он взобрался на воз, сел и стал ждать, как бы безучастный ко всему.
А по двору с ревом и причитаниями бежала Антонидка. Она волокла откуда-то стеганый охабень[96], который и кинула дьякону на плечи, когда подбежала к возу, и сунула черноризцу в ноги узелок, в котором брякнуло стекло. Дьякон тряхнул колпачком и продел в прорешины охабня руки.
С крыльца в исподнем кафтане спустился князь Иван. Он подошел к возу, взял Отрепьева за руку…
— Эх, Богданыч! — стал он печалиться и вздыхать. — Вишь ты, как сошлось по неистовству твоему и легкоте всегдашней. А говорил тебе не раз: Москва — не Путивль, и государь Димитрий Иванович — великий цесарь, не казачий атаман.
Дьякон взглянул на князя Ивана одним глазом лукаво, но ничего не сказал; так и не узнать было, что подумалось ему. Но, как бы невзначай, тронул он ногою узелок, положенный Антонидкою в сено, там забрякало, и Отрепьев улыбнулся даже загогулиною своею, всем лицом. И тотчас, как муху, согнал с лица улыбку, охнул сокрушенно и молвил:
— Княже-друже! Я с давних лет много поднял для царевича труда и печали — в Двинской земле, в Диком поле… Вместе казаковали с ним, вместе богу молились, вместе таились в пещерах, словно зайцы либо лисы. Отчего же государь так опалился на меня?.. И это ли, спрошу тебя, пожать я должен за труды и печаль?
— И много не кручинься, Богданыч, — положил князь Иван руку свою Отрепьеву на плечо. — Ненадолго опала тебе. Поживи у Спаса, в разум придешь, осенью снова будешь тут. Поезжай с богом и не мысли дурного ни против кого.
Дьякон пожал плечами, словно ему тяжела была на плече князь-Иванова рука.
— Не мыслю я ни дурна, ни лиха, — молвил он, качнувшись на возу, когда тот заскрипел подле настежь раскрытых ворот. — Убогий есмь инок… Был гоним, был прогоним и вот ныне — снова гоним.
Но последних слов его уже не слыхал князь Иван. Возы, разбрызгивая на улице жидкую грязь далеко вокруг, подпрыгивали на разбухших от дождя бревнах, которыми замощена была дорога. Впереди ехал на возу стрелец с секирой, положенной поперек колен, а подвойский подсел к Отрепьеву, завернувшемуся в свой охабень. Две телеги приехали за опальным черноризцем на хворостининский двор, а выкатило за ворота три. На последней, подергивая вожжами, сидел Кузёмка, а позади него уместилась набеленная и подрумяненная Антонидка-стряпея, не перестававшая голосить и причитать:
— Ой, и дальняя сторона страшна!.. Ой, и везут тебя, батюшка-свет, во дальнюю сторону!.. Ой, и государевой опалы не избыть, во дальнюю ссылку идтить!
У Кузёмки от Антонидкиных воплей защекотало в груди. Ему так были по душе Антонидкины причитания, что казалось — не на возу трясется Кузьма, провожая батьку Григория в ссылку, а парится в бане и, лежа на полке, кропит себя березовым веничком, размаривая свое тело, забрякшее в погоду и в непогоду. «Хорошо вопит баба: красно и голосисто», — думал Кузьма, поглядывая на Антонидку. А та — все пуще, хотя с чего б это? Был ей черноризец ни сват, ни брат… Но таков уж был обычай.
Скотопригонный двор на Мясницкой улице дал знать о себе путникам еще издали целым лесом колодезных журавлей и непереносною вонью, которою полна была здесь вся округа. От запаха клея, загнивших кож и перегоревшего навоза даже Кузёмкин мерин расфыркался и головою стал дергать, а дьякон на возу своем повернулся к подвойскому, глянул на него уцелевшим оком изумленно, носом потянул и только молвил:
— Ну-ну!..
За скотопригонным двором они на Сенной площади еле продрались сквозь длинное ущелье меж гор сена и ворохов соломы, высившихся на возах и навороченных на земле. И поехали дальше, Сенною улицей, пустынною, забранною одними плетнями с обеих сторон.
Путники миновали запертую палатку на росстанях, где дорога, как вилы, сразу расходилась натрое, своротили направо и проехали еще с полверсты. Здесь кони остановились сами, как только поравнялись с ракитой, к которой приколочен был побуревший от времени и непогоды образ Николы.
Не сворачивая с дороги, стояли все три воза один за другим, и дьякон, задев ногою бряцало в узелке, положенное Антонидкою на воз, выловил бряцало это из-под сена и уместил его у себя на коленях. А подле дьякона уже стояли люди: Кузёмка с той же Антонидкою, стрелец, покинувший на возу свою пищаль, мужик, служивший возницею стрельцу. В узелке у черноризца оказались стеклянные фляжки и братинка[97] круговая; они-то и звенели и бряцали на возу под сеном всю дорогу. И, когда Антонидка развернула прихваченную еще с собой чистую тряпку, которою обернула куски пирога, заходила тогда братнина вкруговую — от черноризца к подвойскому, от подвойского к Кузёмке, от Кузёмки к Антонидке.
— Ехали б путем, погоняли б кнутом, — бросали друг другу путники добрые пожелания, прежде чем из братинки глотнуть.
— Были б дороги ровны, кони здоровы, и ты пей себе на здоровье, — откликались другие.
— Побежала дорожка через горку, — закручинилась Антонидка, после того как несколько раз хлебнула пробирающего питья из братинки круговой. — И… дальняя сторона, — пробовала она было опять завести, но подвойский бросил ей в рот какую-то крошку, которой сразу поперхнулась Антонидка.
Фыркали кони, мотали головами, силясь поворотиться храпом к возу, где шел последний, росстанный пир.
— То и указано глядеть накрепко, чтобы не сбежал? — молвил Отрепьев подвойскому, уткнувшему в братинку вместе с бороденкою и все лицо.
— Борони бог, борони бог, — бурчал в братинку захмелевший подвойский.
— Ан я и убегу, мужик, хо-хо!.. — осклабился Отрепьев, суя себе в рот куски пирога. — Матушкой Волгой путь мне легкий: и следу не сыщешь. Утеку к казакам волжским либо в шахову землю. За обычай мне дело таково.
— Борони бог, борони бог, — тряс только бороденкою подвойский.
Но в фляжках питье было всё, и братинка тоже была суха. Надо было ехать. Отрепьев обнял Кузёмку и с Антонидкою попрощался. Чуть не валясь с ног, побрел к пищали своей стрелец.
А берите, братцы,
Яровые[98] весельца, —
гаркнул он, упав боком к себе на воз, вцепившись там руками в свою пищаль.
А садимся, братцы,
В ветляные стружечки, —
выл он, замахиваясь пищалью невесть на кого.
И рванули кони, понеслись с горки в лог и пропали в ельнике, который разбежался густо по широкому логу. Кузёмка едва вожжи успел схватить, а то, видно, и у Кузёмкиного мерина была охота вслед за другими ринуться в лог. Кое-как взобрались Кузьма с Антонидкой к себе на воз и поехали шагом вверх по косогору, к серевшей на росстанях деревянной палатке.
Солнце уже обошло полнеба, подсушивая дорогу после вчерашней грозы, сверкая в новой траве, пробившейся около лужиц, налитых водою до краев. И у лужи одной, подле самой палатки на росстанях, увидел Кузёмка какую-то растерзанную девку, мочившую себе голову в рыжей воде. Кузёмка остановил коня.
— Ты… девка… что? — молвил он, не понимая, к чему бы это взрослой девке в поганую лужу всем лицом тыкаться.
А девка та, оставаясь на корточках, обернулась к Кузёмке еле, замахала руками, стала дуть себе на руки и заливать себя водой.
— Горю!.. — закричала она вдруг, подскочила с земли и метнулась к Кузёмке. — Заливайте огонь на мне, люди, кто ни есть!.. Топчите, милые, уж сердце занимается…
И она упала без памяти под свесившиеся с воза Кузёмкины ноги, растянулась в грязи вся, в красной сорочке дырявой, едва прикрытой изодранным коричневым платом.