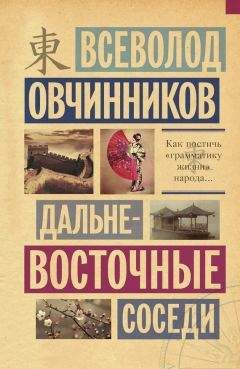Лия Ковалева - Сын идет на медаль
Она посмотрела на Машу… Неужели это от музыки люди так хорошеют?
В антракте показывали Косте филармонию. Маша взяла на себя роль гида. Но Костя смотрел рассеянно. Он, видимо, был ещё полон музыкой…
— А как этот концерт играет Ван-Клиберн! — сказал он мечтательно.
— Великолепно! — радостно ответила Маша. — Я его несколько раз слышала по радио. Совсем по-особенному, — правда?
В разговоре, который завязался — разговоре о пианистах, — Вика не участвовала. А Костя и Маша всё больше оживлялись по мере того, как Вика мрачнела. Разговор перешёл на Русский музей — и тут тоже Вике не было места…
— Некоторые говорят, — пейзажи Левитана безыдейны. По-моему, это глупо, — оживлённо говорила Маша. — Пусть Левитан не рисовал людей, но его пейзажи, как… музыка. Правда?
— В его картинах есть человеческие чувства, настроения, — сказал задумчиво Костя, — значит, есть и люди. Нет, Левитан хорош. Особенно «Вечерний звон».
Вика напрягла свою память. Что она помнит о Левитане? Что-то Зинаида Петровна говорила о нём на уроке, но что? Настроение Вики переменилось. Ей стало грустно. И печальная тема «Франчески да Римини», исполнявшаяся во втором отделении, нашла отклик в её душе. Теперь ей хотелось плакать…
Домой пошли пешком. Вечер был удивительно тёплый. Шли притихшие, — каждый думал о своём. А когда на пути оказался небольшой скверик, весь заваленный жёлтыми листьями, не сговариваясь, зашли и сели на скамейку.
— Давайте читать стихи! — сказал Костя.
— Про осень, — отозвалась Маша. — Давайте про осень! — и начала первая:
«Роняет лес багряный свой убор,
Сребрит мороз увянувшее поле,
Проглянет день, как будто поневоле,
И скроется за край окружных гор…»
Где Вика слышала эти строчки? В классе? Кажется, Зинаида Петровна читала… Читала, но учить не задавала. А Маша выучила. Почему она, Вика, не выучила? Почему она никогда ничего не учила сама, даже не прочитала тот зелёненький томик Пушкина, который когда-то приносила Маша?
Потом Костя прочёл короткое незнакомое стихотворение об осени, о хрустальных днях и лучезарных вечерах. Вика чувствовала, что читал он его для Маши, — даже слегка склонился в её сторону. Господи, хоть бы что-нибудь вспомнить! Нет, ничего. Память Вики — как ровное снежное поле…
Когда очередь дошла до неё, она стряхнула с колен сухие листья и встала:
— Пора домой. Поздно!
— Действительно поздно! — спохватилась Маша. — Наверно, скоро двенадцать!
Когда дошли до Машиного переулка, Костя удержал её за рукав и сказал просительно:
— Проводим вместе Вику, а потом я тебя провожу.
И Маша кивнула, как будто это было вполне естественно — в двенадцать часов ночи пройти мимо собственного дома!
Вика сказала ледяным голосом:
— Мне не нужно провожатых. И вообще — никого не нужно. — И быстро-быстро пошла вперёд. Маша догнала её, схватила за руки, но Вика вырвалась и бросилась бежать.
Маша вернулась к Косте чуть не плача.
— Зачем ты так сказал? Видишь, что вышло!
— Откуда ж я знал? — сокрушённо сказал Костя. — Ведь я только предложил сперва её проводить… Кажется, — ничего обидного…
— Но ты видишь! Нет, зря, зря сказал!
— Наверно, зря, — соглашается Костя. — Но мне хотелось ещё поговорить, а она тянула домой. И потом, по правде — с ней скучно. Она всегда такая?
— Какая — такая?
— Ну… засушенная?
— Нет, вовсе не всегда. В последнее время она изменилась, — не знаю почему. Но всё равно она милая. Ты просто её не знаешь. А какая красивая!
— Красивая — может быть, — сказал Костя, подумав. — А милая — это уж нет! Я под этим словом понимаю что-то совсем другое!
Он не стал уточнять, — что «другое». И Маша не расспрашивала.
Они свернули в переулок и долго еще стояли у Машиных ворот и говорили, говорили. Одно за другим гасли окна в домах. Вот погасло последнее окошко в Машином доме.
А Викино окно ещё долго светилось. Она сидела за столом и, плача, писала отцу:
«Я никому не нужна, всегда и всюду лишняя. Что мне делать, папа? У меня нет и не будет друга. Всегда одна!»…
В комнате было тепло. На столе, в спокойном светлом круге от абажура, лежала книга и стоял приготовленный с вечера бабушкой стакан молока. Уютно тикали часы.
А Вика всё писала, писала, перо скрипело, и крупные слёзы падали на бумагу.
Нужная минута
Первого сентября Митя с Лёшкой, по обыкновению, обежали всю школу. Сильно пахло краской. Стены в коридоре стали нежно-голубые, а в классе — ядовито-жёлтого цвета. В канцелярии появились новые портьеры — Митя сразу заметил их и сообщил Лёшке. Съехать вниз на перилах не удалось — на них были набиты какие-то шипы. Но ничто не могло испортить настроения — всё-таки школа оставалась школой! И учителя остались все прежние, вот что здорово!
Сбежав вниз по лестнице, Митя сильно рванул дверь пионерской комнаты — и вдруг затормозил разбег: Тани в комнате не оказалось. Вместо неё за столом сидела высокая белокурая девушка и что-то писала в большом журнале, похожем на классный. Она удивлённо подняла брови.
— Простите, — пробормотал Митя, — а где Татьяна?
— Татьяна Николаевна больше здесь не работает, — сказала белокурая без улыбки, с нажимом на «Николаевна». — Она уехала.
— Как уехала?
— Так — уехала. Теперь я вместо неё. Ещё вопросы будут?
Она смотрела на ребят холодными зеленоватыми глазами. Митя потоптался на месте, но вопросов не нашлось. То есть, вопросы были, но обстановка не располагала к беседе.
Митя ещё раз извинился и на цыпочках вышел, притворив за собой дверь. Лёшка, так и не промолвивший ни слова, смотрел на Митю, Митя — на него.
— Уехала! — сказал Лёшка огорчённо. — Вот те раз!
— А ещё обещала помогать! — добавил Митя, ни на минуту не забывавший о своих новых обязанностях. — Помнишь, говорила: «И не так страшно быть секретарём: комсомольцев у нас не так уж много, я помогу!» Вот и помогла!
— Послушай, — может, она замуж вышла?
— Ну да! Татьяна-то?
— А почему бы и нет? Это бывает!
— Н-не знаю… Что-то не похоже на неё! — с сомнением в голосе сказал Митя. И в самом деле — живая, смешливая Таня, подстриженная под мальчишку, была уже не ровесницей, но ещё не наставницей; она была несомненно настоящим товарищем. И вдруг — Таня замужем? У Тани дети? Нет, это невозможно!
И только в раздевалке всё объяснилось: нянечка вручила Мите голубоватый конверт.
— Тебе, Бусырин, — сказала она, — от Татьяны. Приходила прощаться, велела передать.
Митя покрутил конверт, вскрыл его и вместе с Лёшей прочитал короткую записочку:
«Дорогие ребята, уезжаю на целину. Вернусь ли оттуда, — не знаю. Не сердитесь, что бросила всё: очень там нужны люди, а здесь найдётся кем заменить меня. Напишу подробно, как только приеду. Работайте весело. Пионеров моих не обижайте, не забывайте! Пишите непременно (куда, — сама пока не знаю! Как в песне поётся, — «напиши куда-нибудь»).
Ваша Таня».
— На целину ускакала, — промолвил Лёшка. — Вот это на неё похоже! Нет, это хорошо!
Митя вздохнул и ничего не сказал.
Ей-то хорошо — на целине. А ему каково?
Митю охватило сиротливое чувство. Только теперь он понял, как крепко он надеялся на Танину помощь. Эх, Татьяна, Татьяна!..
Лёшка понял всё. (Он всегда всё понимал.)
— Ладно, Митяй, чего там, — сказал он. — Вместе будем. В конце концов главное — пионерская работа; тут мы не подведём, ты же знаешь! Да и вообще — комитет соберём, придумаем что-нибудь такое… необычайное. Вот увидишь!
На следующий день Митя опять отправился в пионерскую комнату — но уже по-другому. Он постоял перед дверью, оправил гимнастёрку и, собравшись с духом, решительно открыл дверь.
В комнате было очень чисто, даже чересчур чисто, как показалось Мите; веяло нежилым духом. Три шкафа с играми и книгами были под замком. На столе лежала незнакомая синяя скатерть. Новая пионервожатая, услышав, что Митя — секретарь, подняла на него холодные глаза, сказала: «Что ж, будем работать в контакте» — и снова занялась своей тетрадкой. Митя постоял-постоял и ушёл. Он плохо себе представлял, какой контакт имела в виду Валентина Степановна. Она даже не улыбнулась ему. Впрочем, почему она должна была улыбаться? Серьёзный человек не обязан улыбаться при каждом новом знакомстве!
Через неделю она подошла к Мите поговорить об отрядных вожатых. Поговорили. Она записала всех себе в блокнот, обозначив, с Митиных слов, хороших вожатых знаком «плюс», плохих — знаком «минус». Мите стало неловко.
— Это я так, приблизительно, — сказал он торопливо.
— Не волнуйся! — сказала Валентина Степановна. — Всё будет проверено. Я всегда всё проверяю сама! — добавила она и ушла, не улыбнувшись, высоко держа белокурую голову. Митя глядел ей вслед. Что у неё внутри? Сдвинутые брови, серьёзные глаза, суровые складки у губ… Может быть, такими и были комсомолки во время гражданской войны — те, что в кожанках, в красных платочках работали в райкомах, а потом запирали райкомы, оставляя на дверях бумажку: «Все ушли на фронт»?