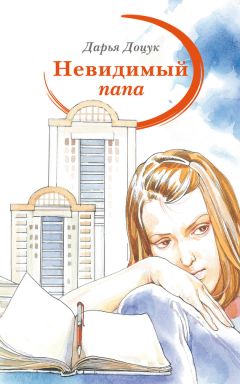Александр Кононов - У Железного ручья
Разговаривая, незаметно подошли они к высокому дому с розовой крышей. У раскрытых дверей, рядом с кучей мусора, ползали двое ребятишек в рваных рубашонках, кудрявые, черноглазые, очень похожие друг на друга. А нрава они были, видно, разного. Один доверчиво сиял навстречу мальчишкам большими блестящими глазами, а другой испугался, готовился зареветь. Одинокая курица бродила около, с унылым вниманием поглядывая на кучу мусора. Какое-то запустение было вокруг: сухая земля — в трещинах, только кое-где желтела еще не совсем вытоптанная трава… Мальчики подошли ближе.
Один из ползунков наконец собрался с духом — заорал. Из раскрытых дверей вышла девочка лет восьми, сердито посмотрела на путешественников и схватила плачущего брата; это, конечно, был ее брат, а все они вместе, должно быть, приходились внуками бесстрашному Исааку.
— Кумагер, кумагер! Иди сюда! — на всякий случай позвал Гриша.
Но девочка в ответ взяла за руку и другого братца, радостно удивленного, и увела обоих, с трудом притворив за собой тяжелую дверь.
— Если мы обойдем кругом этот дом, — сказал Гриша, — это не значит что мы свернули со своей дороги. Мы его обогнем, а потом опять пойдем прямо.
— Ладно.
За домом было картофельное поле с прямыми бороздами, по ним и пошли путники. А впереди виден был огромный дуб, за ним синел лес. Ясно, что к этому дубу и надо было держать путь.
Но тут им предстояло первое испытание. К ним бежала по полю большая черная собака; правда, бежала она деловитой рысцой, озабоченно, загнув колечком пушистый хвост и вывалив изо рта розовый язык, но все же кто ее знает, что у нее на уме.
Проще было б уйти от греха — свернуть в сторону.
Ян прошептал:
— Вот такая ж была та, которую убил мой батька.
Мальчики остановились. Собака увидела их и тоже остановилась; спрятала язык, подозрительно повела носом, потом с враждебным выдохом «ввух, ввух» бросилась в сторону, не успев второпях залаять.
— Собаке, главное, надо показать, что ты ничего на свете не боишься, — сказал Гриша, у которого еще билось тревожно сердце.
— Это не бешеная. А раз не бешеная, чего ее бояться?
4
Дуб рос у большой дороги. Когда мальчики подошли к нему, на дороге показалось облако пыли, и из этого облака лился лихой звон бубенцов. Пришлось остановиться: надо же поглядеть, кто едет.
— Если тройка — исправник, — сказал Гриша.
Нет, это была не тройка. Это бойко катилась одноконная тележка. Маленькая лошадка поматывала головой от слепней, и на дуге у нее, повизгивая, метался один-единственный бубенец. Ну, тогда это Лещов. Только он и ездил на одной лошади с таким звоном. Звон он завел не для форса, а затем, чтобы в деревнях бабы издали его слышали и несли ему кто продажный лен, кто полотно, а кто и лукошко яиц.
Лещов был прасолом. Гриша долго не знал, что значит это слово. А звучало оно вкусно: как услышишь его, почему-то сразу вспомнятся свежепросоленные огурцы. А потом оказалось, что прасол — это то же, что скупщик. Слово скучное, серое. Скупщик ездит повсюду, собирает для города деревенские товары, с этого и живет.
А вот уже видны стали белый картуз, черная борода. Гриша узнал толстого, как бочка, Лещова: тот не один раз ездил в усадьбу к Перфильевне — приторговывал у нее яблоки, у Пшечинских закупал овес.
Рядом с Лещовым сидел смуглый мальчик в голубой нарядной рубашке.
Прасол придержал лошадь:
— Да вы, ребята никак, из «Затишья»? Ты парнишка Шумова, садовника? Ну да, я тебя сразу признал. Вылитый папашка.
Он поглядел на мальчиков:
— Возьмите моего сынишку в компанию? А то он мне только мешать будет в «Затишье». Вернетесь в усадьбу вместе. Я до вечера там пробуду — дела.
Мальчики застенчиво промолчали.
— Ну, как же?
— Мы, может, и не вернемся вовсе, — несмело сказал Гриша.
— Вас брюхо вернет! — захохотал Лещов. — Оно вас доведет до дому к обеду.
Мальчики молчали переглядываясь.
— Слезай, Евлаша. Поиграйся с ребятами.
Евлаша глянул на мальчиков хитрыми узкими глазами.
— А ну их! — сказал он скороговоркой. — Это латыши.
— Ты латышами кормишься, дурень! И какой же Шумов латыш?
— Ну, вон тот, другой, латыш. Ишь, голова как сметаной обмазана!
— Слазь, дурак! — рассердился Лещов. — Вот уж у дурака что на уме, то и на языке! Слазь! А то будешь у меня весь день под ногами путаться…
Евлаша слез неохотно. И мальчики увидели на сыне прасола великолепные сапоги. Это были настоящие большие сапоги — с чуть порыжевшими носками, со слежавшимися гармошкой складками внизу голенищ, а голенища были до самых колен. Именно о таких сапогах и мечтал вот уже два года Гриша Шумов. И лаковый пояс, сияя черным глянцем, ловко стягивал голубую Евлашину рубашку. Пока мальчики разглядывали все это великолепие, Лещов-отец кивнул головой, хлестнул вожжой по лошади. Гремя бубенцом, тележка покатила дальше.
— Вы чего тут делаете? — спросил Евлампий свысока.
— В лес идем… — начал было Гриша.
Но Ян толкнул его локтем и пробормотал:
— Держи при себе.
— Чего «держи при себе», чего «держи при себе»? — оживился Евлаша и забегал по лицам своих новых знакомых быстрым взглядом узеньких глаз. — Ну, чего, чего?
Гриша тоже толкнул Яна и проговорил:
— Идем туда, где Железный ручей.
Евлаша сразу же ответил, не задумываясь:
— Такого нет.
— Как это так — нет? Почем ты знаешь?
— Знаю. Такого ручья нету.
Ян с Гришей переглянулись: нет, этот парень им не подходил.
— Ну, тогда мы пойдем вдвоем. А ты оставайся.
— Не, и я с вами!
— А мы тебя не возьмем. Тебе с нами нельзя: мы идем прямой дорогой.
— Ну-к что ж, и я с вами!
— По дороге встретится болото — куда ты в своих сапогах? А мы сворачивать не можем, мы все прямо, все прямо…
— Эко дело — болото! Да я сапоги скину, босым пойду. А бросить меня вы не смеете — я один дороги не найду.
Так, перекоряясь, выбрались они через глубокую канаву в поле и пошли дальше — горбатой межой, заросшей клевером и богородицыной травкой, и молодая рожь кланялась им с обеих сторон.
Вот и лес начался — ивняком, ельником, молодыми березками.
У березок листва была еще клейкая.
После березок пошли сосенки — всё выше и выше ростом, — и начался настоящий бор. Особенная тишина царила здесь, под высокими сводами, даже птиц не было слышно, и покоились эти своды на могучих колоннах, темно-сизых, будто чугунных внизу, бронзовых посередине и нежно-восковых наверху. Кое-где у восковых веток, у зеленой крыши, проглядывали голубые лоскутки неба. Сухая хвоя, сыпучий песок скрипели под ногами, да протяжно шумели верхушки сосен. Мальчики замолчали.
Только Евлаша сказал подавленно:
— Такой лес я не люблю. У нас в роще под Ребенишками веселей: народ гуляет… по праздникам оркестр вольно-пожарной дружины…
Никто ему не ответил, и он замолчал.
Казалось, не будет конца этому бору. И вдруг раздвинулись стволы сосен, и радостным привольем сверкнула поляна, заросшая некошеной травой и цветами. И светлый ручей, выбегая из леса, лежал извилиной среди этой поляны, пахнувшей медом.
Нет, это не был Железный ручей: узенькая тропка бежала к нему, пропадала в воде и снова выбегала на другой его берег. Значит, здесь тайны не было: ручей был ведом многим.
И все ж мальчики кинулись к нему бегом — к обыкновенному ручью, в котором еще издали было видно желтое песчаное дно.
Они разделись и долго плавали, старались нырнуть и тыкались макушками в отглаженный водою песок. Потом лежали на чуть колючей и все-таки ласковой траве — лежали под солнцем, пока не начала гореть кожа.
После купания так захотелось есть, что Гриша с Яном, не сговариваясь, разом вынули свои запасы хлеба, отделили от них ровно половину и половину эту разделили на три равные части. А другую половину опять спрятали.
Евлаша ухмыльнулся:
— Небогато живете. Я пряники люблю. Ну, уж бедно-бедно — мы едим дома ситный. А тут на тебе — черный хлеб!
— А ты и не ешь, коли неохота.
Ян достал из тряпочки серую соль, круто посолил свой кусок: эх, и вкусно!
У Евлампия потекли слюнки:
— Ну-кась, дай уж и мне, все одно…
Ему дали хлеба, он начал жевать, морщась и разглядывая серую соль.
— Небогато живете.
— Вот если б нам ружье, — сказал Гриша, — настреляли б птиц всяких… Развели б костер, ох ты-и! На неделю еды хватило б.
— «Бы б», «бы б»! Если бы б, да кабы б, да росли б во рту грибы б, — скороговоркой откликнулся Евлампий.
— И чего ты за нами увязался! — рассердился Гриша.
Евлампий открыл рот, хотел что-то выпалить, да, видно, побоялся: не бросили б его одного среди леса, — промолчал.
Поев, мальчики по тропке, что выбегала из ручья на другой берег, зашагали дальше.