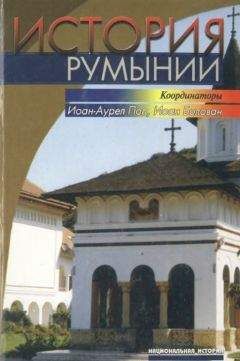Мирча Дьякону - Когда у нас зима
Только когда у меня кровь немного отхлынула от головы, я увидел, что мы стоим на чьем-то крыльце, в окнах горел свет, внутри пели, матроска была вся в снегу, я держал в охапке Алуницу Кристеску, и первый раз в жизни мне захотелось назвать ее просто Алуницей. Она очень хорошая девочка. И вдруг я сделал одну вещь, которой от себя не ожидал: я поцеловал ее в обе щеки. А она взяла и тоже меня поцеловала, как будто мы были двоюродные брат и сестра. Не знаю, что на нас вдруг нашло, только мы не сговариваясь запели:
За холмом, холмом высоким,
Светлый боже, светлый боже,
Солнце ясное вставало,
Светлый боже, светлый боже...
И дверь дома отворилась, и на пороге была мама, испуганная, что мы пропали. Нас ввели в дом и дали нам пирожных, потому что, пока мы колядовали, они дошли до восьмого блюда, то есть до сладкого. Потом Алуница прочла стишок, нас переодели в сухое и уложили в постель на четыре персоны вместе с моим братом, то есть три персоны.
Утром мы пожелали друг другу счастливого Нового года, и Алуница ушла к себе домой. Я проводил ее до сарая, там мы разделили деньги за колядки, по двадцать лей на брата, у меня в жизни не было столько денег. На прощание я подарил ей несколько марьян, и она ушла счастливая, а я спрятал деньги за балку на чердаке, до летней ярмарки. На самом деле у меня в сарае куча денег, то есть полная бочка в углу и сундук на чердаке, я их даже ни разу не сосчитал. Мой брат пробовал, но остановился на ста пятнадцати миллионах. Только их не я заработал, поэтому мне все равно.
У нас в сарае очень много вещей, но самое лучшее — это коробки с письмами. Я читаю целыми часами, Больше всего мне нравятся прощальные письма, я даже плачу. Они гораздо интереснее, чем книги про партизан. Еще мне нравятся открытки с видами, под ними обычно подписано: «Привет с Черного моря». Но есть и другие подписи, например: «Своим письмецом из дальнего края три раза целую тебя, дорогая». Эти я отложил и читаю по воскресеньям. А под лестницей стоят ящики, до которых я еще не добрался.
Родственники осипли и собрались уезжать. Самая сиплая была тетя Корни, но все равно она попросила у мамы орехов и молотой фасоли. Она даже пошутила: «Ах, дорогая, мы гостим у вас уже второй год»,— но никто особенно не смеялся, без голоса это трудно. Во дворе дядя Аристика ругал колядки и говорил, что хуже обычая румыны не могли придумать и что он теперь будет под Новый год запираться в доме. И в это время щупал овцам бока.
Папа и дядя Леон вышли из большой комнаты, они отнесли туда ружье и заперли в сундуке с маминым приданым. Дядя Леон был веселый, а папа смотрел на часы дяди Аристики, который заколачивал бочку со сливами. Со вчерашнего дня складка на папином лбу стала еще больше.
Синицы вертелись под ногами у родственников, дожидаясь, когда снова можно будет клевать окно и проволоку. Снег лежал старый, как будто пролежал сто лет. Небо как провисло вчера, так и висело, холод был тот же, что вчера, все собаки притихли, каждое слово застревало в воздухе, пятнадцать теть собирали вещи, Алуница Кристеску наверняка подсматривала из-за забора, и я не понимал, почему сегодня другой год, чем вчера, и чему тут радоваться.
Я не хотел выходить из сарая, приближалось прощание, а я был какой-то квелый и думал увернуться от поцелуев. Я видел в щель, как они выносили сумки с нашими орехами, морковью и фасолью. И конечно, завидовали нашему чистому воздуху — слышно было плохо, но я догадывался по их лицам. Мама бегала взад и вперед, веселая. Она всегда хочет, чтобы все были довольны, а особенно родственники, люди городские, важные, им нужно угождать, иначе осудят. Мой брат сидел на завалинке, готовый к прощанию, дедушка начал уже желать всем многая лета, а мама заозиралась, ища меня. Я сидел и думал: только бы не позвала. На ее голос не хочешь, а отзовешься, нельзя сделать вид, что тебя нет. У нее такой голос, как будто бьет током, и сколько ни старайся думать о другом, два оклика еще куда ни шло, а на третий приходится откликаться.
Я начал повторять таблицу умножения. На трижды три она меня кликнула, и на трижды восемь я отозвался. Когда я вышел, синицы закружились вокруг меня, а у завалинки выстроились тети. Я видел только красные губы и набитые сумки. Спиной я чувствовал за забором Алуницу Кристеску, которая что угодно отдала бы, чтобы иметь столько теть, она, наверное, неделю бы потом не умывалась и пошла в школу с помадой на лице от тридцати поцелуев, чтобы все видели.
Они уже взялись за моего брата, и мне надо было торопиться, не отстать от него больше, чем на тетю-другую, чтобы слышать, что он им говорит, и говорить то же самое, хотя вблизи я их всех знаю по запаху и не путаю. Мама была довольная и смотрела на нас, как на фотографию, где мы хорошо вышли.
Дядя Леон говорил папе, что недели через две-три он приедет охотиться и чтоб папа смотрел в оба, потому что в лесах рыщут бандиты, и надежные ли запоры у сундука в большой комнате, куда мы и так заходим только по воскресеньям, и то только поглядеть на портрет нашего прадедушки Ги́цы, который тоже был священник. Мой папа слушал, кивал головой, но смотрел все время на дядю Аристику, а вообще-то на его часы с золотой цепочкой.
Моему брату оставалось еще две тети, а мне три. Во рту было приторно, как будто я наелся губной помады, я и вправду ее наелся. Спиной я чувствовал Алуницу Кристеску, как она застряла между досками забора, прочно застряла, и спешить ей некуда, потому что школа начнется только через неделю, и думал, как ужасно быть иконой: висишь, а к тебе прикладываются все кому не лень. Тут надо мной наклонилась тетя Корни, и я сказал: «Тетя Корни, целую ручки, приезжайте к нам еще, можно я сейчас пойду в туалет?» Я и мой брат одни во всей деревне говорим «туалет», но только когда у нас гости. Мама перепугалась: «Тебе не стыдно?» — «Стыдно»,— ответил я и пошел, куда просился. Там у меня есть толстые книги в твердых обложках, папа про них говорит, что они ни на что больше не годятся, а я не понимаю почему, они же тяжелые, как кирпичи. Дядя Ион, который студент, говорит, что не зто важно, но для меня это очень важно, потому что я на них залезаю и смотрю в окошечко.
— Слушай, ты, я тебе румынским языком говорю: эти овцы от моего барана, я его здесь держал, значит, они мои, и сливы мои, но я их пока не беру, я возьму только цуйку, и нечего на меня таращиться, не испугаешь, со мной лучше не связываться, я примарём[4] был, да, у меня все село по струнке ходило, я на вас найду управу, ишь, мир они хотят перевернуть, и попробуй только со мной судиться, у меня везде свои люди, они тебя так законопатят, никто не вытащит, ни поп, ни черт!
Все пытались успокоить дядю Аристику, но чем больше папа молчал, тем больше он расходился. Мама держала за руку моего брата, ах, как бы я хотел быть большим и сильным, но я не был и от этого чуть не заплакал. А плакать мне нельзя, и я стал повторять таблицу умножения, но тут откуда-то выскочил наш Гуджюман, дядя Аристика сорвал с забора кринку, замахнулся на него, но кинуть не успел, потому что папа прижал его к стене и его кулак ушел в дядин живот и там скрылся. Несколько теть завизжали, что он его убьет, дядя Ион и дядя Петре, которые студенты, смеялись, даже мама, по-моему, была счастлива, а она говорит, что счастлива была только в молодости, когда ходила в кино. Папа вырвал кулак из дядиного живота, и в нем были те самые часы на золотой цепочке. Он поднес кулак к дядиному носу, разжал, но часы были уже не часы, а что-то другое, сплющенное, и одно колесико выкатилось между папиных пальцев. Папа подобрал его со снега и сунул всю горсть часов обратно в дядин карман.
— С Новым годом! — сказал папа, а дядя сначала криво усмехнулся и только потом сполз вдоль стены, вымазав спину белым. Что дальше, я не знаю, потому что стопка книг развалилась под ногами и я упал. Правду папа говорил, что они никуда не годятся.
Я весь день радовался, но сквозь радость меня мучали запахи, и к вечеру я заболел. К тому же я сделал глупость, оставил свое счастье в лесу, в дупле, и теперь не знаю, как перебьюсь до весны.
Болел я целый месяц, и никто не верил, что это от поцелуев. Правда, и болезнь была ненормальная: ничего не болит, только температура и в ушах все время музыка, одна и та же, а во рту от нее привкус черносливовых косточек. Ничего мне больше не снилось, ни еда, ни конфеты, и только тот хромой черт целый месяц вызывал меня и заставлял слушать свою трубу.
Когда я выздоровел, от зимы уже почти ничего не осталось, и мой брат ждал меня, чтобы стащить ключи от большой комнаты и посмотреть на ружье дяди Леона, запертое в сундуке. Он говорил, что в наших лесах завелись бандиты, что, пока их не арестовали, они очень опасные, и надо уметь обращаться с ружьем, это не помешает. Пули он раздобудет, ему обещали. Мое дело маленькое, то есть стащить ключи и сторожить его, пока он будет осматривать ружье. Потом наоборот: он будет меня сторожить, но я в наоборот не верю. А до тех пор, поскольку дни тянулись длинно, как насморк, мы прочли еще две книги про партизан, то есть одну он и одну я. В обеих побеждали советские воины, и мы вздыхали с облегчением.