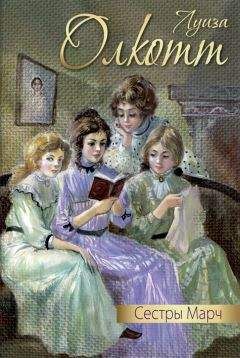Елена Криштоф - Май, месяц перед экзаменами
Я помню, как Нина однажды шла по двору, по-детски прогибая коленки и выставив лоб, будто ей приходилось преодолевать ветер, а мы все смотрели на нее, на эти оттянутые к вискам задумчивые брови, на спутанные легкие волосы… И вдруг Коля Медведев как-то нечаянно, как иногда думают вслух, негромко запел:
Я гляжу на фотокарточку:
Две косички, строгий взгляд,
И мальчишеская курточка,
И друзья вокруг стоят.
Он пел, а добрые и медлительные глаза его были полны недоумения, до того все подходило к Нине. И мы все переглянулись, улыбки у нас у всех были какие-то даже растроганные: ах, как все подходит, как удивительно подходит (хотя идут вовсе не двадцатые годы, о которых говорилось в песне, и даже не война)!
За окошком дождик тенькает,
Непогода на дворе,
Но привычно пальцы тонкие
Прикоснулись к кобуре.
И когда потом некоторое время Нинку звали комсомольской богиней, то ирония звучала только в голосе Володи Семиноса и Милочки Звонковой.
Впрочем, мне кажется, Милочка просто завидовала. Надо думать, она понимала, как относятся в классе к ней и как к Нине. Милочку, на мой взгляд, интересовали главным образом отношения между мальчиками и девочками. Те, что со временем перерастают в отношения между мужчинами и женщинами. И как ни странно, такие отношения складываются в нашем классе вовсе не завидно и не благоприятно для нее.
И появление в школе Виктора Антонова ничего не изменило в Милочкину пользу, хотя это многих удивило. Да и я тоже вслед за многими удивляюсь. Милочка вызывающе, излишне красива. А Нина… Что ж, Нина может показаться очень обыкновенной. Фигурка столбиком, и тот оттенок волос, ресниц, кожи, который принято называть ореховым. Как-то одно у нее слишком загорает, другое слишком выгорает.
Иногда мне кажется, я могу до мельчайшей подробности представить себе, что чувствует Нина с тех пор, как на ее пути встал Ант, как его называют ребята. Ну да, она уверена, что совершенно неоспоримо командует и его широкими плечами, и его голубыми блестящими глазами, и смешинками в этих глазах, и морщинками между бровей. Но иногда ей среди ликования, в освещении даже самых ярких факелов этого ликования, становится страшно. Вдруг она рассматривает, как много имеет, как много далось ей. А удержит ли?
Но она не станет цепляться, не станет уступать. Она засунет руки поглубже в карманы своей брезентовой курточки, сделает решительный шаг (маленькая нога в запыленной туфельке становится так, будто придавливает всякие сомнения), за ним следующий и пойдет вперед с высоко поднятой головой. И несмотря на то что она в горе, а не одержала победу, к ней в затылок будут пристраиваться все новые и новые, как пристраиваются к сильному, с любопытством и надеждой, потому что, вероятно, на свете нет ничего прекраснее человека, верного своим принципам. То есть, конечно, если эти принципы сами по себе и хороши и строги.
Вот так-то. А Виктор уводит ее в сторону от этих принципов. Ах, дело не в том, что он ходит с ней к обрыву, он уводит ее в сторону, он хочет, чтобы Нина поступилась совсем чуть-чуть. Сделала такую маленькую поблажку, такую незначительную уступку, — решила за него задачу, и все. Хотя не может быть, чтобы не слышал, за что Нину зовут комиссаром и железобетонным старостой, не за курточку же одну, в самом деле.
Виктор не знает, правда, таких подробностей, как, например, мой разговор с Людмилой Ильиничной еще три года назад. Людмила Ильинична спрашивала тогда:
«Скажите, Анна Николаевна, вот как вы боретесь со шпаргалками? В вашем классе их совсем нет».
А мне приходилось отвечать:
«Борется главным образом Рыжова».
«Что же, вы перепоручили этой девочке доказывать своим ровесникам, что аттестат не простая бумажка, даже если не идешь в институт?»
«Нет, она доказывает им другое».
«Конечно, что алгебра интересна сама по себе?»
«Что стыдно просить милостыню, когда можешь работать».
Людмила Ильинична смотрит, словно споткнувшись о мои слова:
«Это что-то слишком мудрено для меня».
Выражение лица у нее становится напряженно-обиженным. Может быть, ей кажется: я намекаю на Милочку. Я специально хочу унизить Милочку, противопоставляя Милочке Рыжову. Говорить дальше с Людмилой Ильиничной трудно, тем более я не знаю точно, так ли уж мне не хочется противопоставить Милочке Рыжову.
«Слишком это мудрено для меня, — повторяет Людмила Ильинична. — И потом, вы открываете чересчур широкий доступ самотеку».
Людмила Ильинична ничего не любит пускать на самотек. Всю жизнь она то с трибуны, то из-за учительского стола своим четким и каким-то очень определенным голосом проповедует:
«Надо учиться, Гинзбург, а не рассуждать: попаду в институт, не попаду в институт».
«В институт приводят знания, всякие другие пути в наше время исключены, Семинос».
«Комсомольцы в тайге, в палатках спят, а вы на субботнике работаете, будто боитесь лишний кирпич поднять».
«Не грех и на заводе остаться, государство отблагодарить».
Все правильно: не грех.
Но вот надо в рамки этих правил втиснуть собственную дочь. А Милочка не втискивается. Она трется своей золотой головкой о жесткое плечо. О плечо, до сих пор, наперекор веяниям, закованное в чесучу и габардин. И побеждает: плечо никнет. Оказывается, оно принадлежит не только завучу средней школы № 2, но и немолодой уже женщине, матери…
И немолодая уже, умная женщина начинает заниматься тем, чем занимаются очень многие: она ищет, как бы доказать себе и людям, что ее Милочка, ее дочка, в общем-то, исключение и склонению по правилам не подлежит.
— Вы знаете, — говорит Людмила Ильинична в учительской, ни к кому особенно не обращаясь, — Милочка даже меня вчера удивила сочинением. И я решила: может быть, пусть попытается в МГУ?
Людмила Ильинична смотрит на нас таким непривычным, просящим взглядом. Неужели нам трудно рассеять ее сомнения, закивать головами, сказать:
«Ну что вы, конечно, конечно, у девочки определенные способности»?
Не знаю, почему трудно другим. Что касается меня — мне трудно, потому что Милочка собирается стать журналистом…
А может быть, мы могли бы не только закивать: «Конечно, конечно», но как-то и помочь. Журналисту ведь совсем не нужна математика, не очень нужны химия и физика.
Это с одной стороны. С другой стороны, аттестат должен выглядеть не то что прилично — аттестат должен блистать!
Блистать же Милочкиному аттестату «не светит», как говорит тот же Семинос.
— Четверку? — Наш химик подпрыгивает от возмущения и протирает очки. — Какая может быть четверка, я вас спрашиваю, Людмила Ильинична? Или — или. Или нейлоны, или химия.
У Аркадия Борисовича вдохновенное лицо обличителя, а из-под коротких брюк, когда он становится на цыпочки, предательски выглядывают голубые грамофончики.
— Нейлоны как раз и есть химия, — вяло пытается все свести к шутке Зинаида Григорьевна, — а красивая одежда никому еще не мешала учиться.
— Не мешала — да! — кричит Аркадий Борисович, — «Быть можно дельным человеком!» и так далее. Да! Это я тоже проходил лет сорок назад. Но она не дельный человек. У нее другое главное: все витрины, все зеркала. Профиль — влево, профиль — вправо, а где время для задач, для формул, я у вас спрошу?
Аркадий Борисович наконец надевает очки и обращается ко мне почти спокойно:
— Да. Как эта девица у вас учится? Как?
— Она не учится. Она, в лучшем случае, разрешает себя учить, — отвечаю я и усмехаюсь.
Усмехаюсь, потому что у Аркадия Борисовича несколько одностороннее представление о Милочке. Профиль — влево, профиль — вправо, все правда. Но скажите, кто в восемнадцать не рассматривает чуть ли не часами свои совершенно новые руки и ноги? И глаза, и губы, и щеки? Или, может быть, в восемнадцать кто-нибудь откажется от возможностей, которые преподносит белое воздушное платье на жестком чехле (наивные черточки ключиц и талия, о какой вчера еще никто не подозревал)? Или другое, натянутое, словно шкурка змеи? Или третье? Или четвертое?
(Что касается меня, я вцепилась бы двумя руками хотя бы потому, что одёжка, сшитая из пятнистой плащ-палатки, не преподносила в свое время никаких возможностей.)
Все дело, очевидно, в степени озабоченности. Но если «степень» обозначает количество, то качество, то есть оттенок озабоченности, играет здесь не последнюю роль.
Милочкина озабоченность нарядами, прическами — уже отраженное. Главное — она озабочена собой. А если бы не нарядами — наукой, но только для себя? Карьерой? Было б лучше? Надо думать, не было бы.
Я пытаюсь прикинуть, что произойдет, если Милочку действительно окружит тот блеск, тот успех, которые спит и во сне видит витающими над Милочкиной головой ее мать.