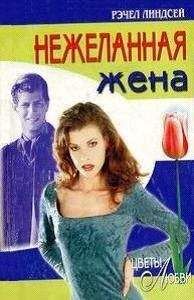Анатолий Алексин - Третий в пятом ряду
Я написала, что люблю их всех (всех сорока трех!). что поэтому бываю недовольна ими, строга и что желаю им всем счастья.
Следующая анкета называлась иначе: «Что мы думаем о наших учителях?»
В этом номере Ваня спорил со мной: "Нельзя, я думаю любить всех на свете людей. А мы — те же люди. Я бы, например, не смог полюбить Сеньку
Голубкина!"
Так прямо и написал. Не побоялся Сеньку. А я то и дело оглядывалась на Голубкина…
— Сколько лет вашей внучке? — спросила меня сестра Маша.
— Шесть с половиной.
— Осенью должна была пойти в школу?
"Почему должна была? Она пойдет в школу… — говорила я себе. — Ваня
Белов спасет ее! Теперь, когда я до конца поняла его… Когда до конца поверила… Он не может ее не спасти!"
На круглых часах было семь минут третьего.
«Он помнил лишь о себе. И о своих выдумках…» — сказала я как-то внучке.
Это была неправда. Он думал о других гораздо больше, чем другие о нем.
Но для Вани это было не важно: совершая свои «спасательные экспедиции», он никому ни за что не платил и ничего не желал взамен.
Сейчас он думал о моей внучке. И спасал ее.
«Безумству храбрых поем мы песню!» — как бы в шутку цитировал он. Но никогда не совершал безумств ради себя. Почему лишь в больнице я поняла это?
Неужели непременно должна случиться трагедия, чтобы мы поняли, кто может нас от нее спасти?
На виду у большой беды мне хотелось исповедаться перед собой и найти искупление.
Я помнила слова мудрейшего Монтеня, сказавшего о своих глазах: «Нет на свете другой пары глаз, которая следила бы за мной так же пристально».
Мои глаза тоже были в тот день очень пристальны… и недовольны мною.
Когда выяснилось, что Геннадий, мой бывший муж, стал доктором наук, крупным ученым, я решила, что он прежде скрывал от меня свои способности. На самом же деле это я скрывала его способности и его характер от него самого. Я хотела, чтобы компасом для Геннадия были лишь мои взгляды, мои убеждения.
Но жизненный компас, верный для одного, может сбить с дороги другого… Мне хотелось, чтобы мой муж смотрел на мир моими глазами и жил моими призваниями. С теми, кто любит, так поступать опасно: они могут подчиниться — и навсегда потерять себя.
Иногда я так поступала и с сыном: выбирала ему друзей, разлучила с
Ваней Беловым… Он любил меня — и тоже мне подчинялся. А потом, должно быть намаявшись со мной, женился на Клаве, которая всегда к нему
«присоединялась».
Чтобы поверить в себя, человек порой нуждается в преклонении… Когда сын, еще школьником, возился с грязными черепками и в каждой рухляди видел признаки «древней культуры», многие смеялись над ним. А Ваня Белов восхищался.
Почему же я их все-таки разлучила?
У Вани был свой характер. Не подчинявшийся… А я в те годы, не отдавая себе отчета, стремилась привести все сорок три характера своих учеников к общему знаменателю. И этим знаменателем была я сама.
О судьбах учеников мне хотелось знать все: кто родители, в каких условиях живут, как готовят уроки… Но оказалось, что познать характеры гораздо труднее, чем судьбы. И я освобождала себя от этого.
Я хотела, чтобы ученики послушно всему у меня учились. Ваня же сам мог если не научить, то уж во всяком случае проучить меня.
— Я загляну в операционную, — сказала мне сестра Маша.
Она снова вынула зеркальце, поправила прическу и пошла. Потом вернулась и сказала:
— Ничего… Иван Сергеевич улыбается. Все будет нормально!
И стала наливать валерьянку. Я протянула руку… Но она выпила валерьянку сама. «Как же она могла увидеть, что он улыбается? — подумала я. — Как она могла это увидеть? Ведь на лице у хирурга повязка. Как же она… Но там, рядом с моей внучкой, Ваня Белов! Значит, все и правда будет нормально… Я верю. Если Ваня Белов…»
Раньше он то и дело обрушивал на мою голову чрезвычайные происшествия. «Что будет, если все начнут ему следовать?» — со страхом думала я. Но следовать ему никто бы не смог: для этого нужен был его,
Ванин, характер.
Мой сын, археолог, всегда уверял, что влияние прошлого на настоящее и будущее колоссально.
"Из того, прошлого, Вани, который мог ради спасения Сени Голубкина пройти по карнизу третьего этажа, получился хирург, — думала я. —
Хирурги ведь тоже должны помогать всем, кто нуждается в них, — независимо от достоинств и качеств: и Голубкиным, и моей внучке".
Некоторые люди, знавшие меня в молодости, встретив потом, говорили:
— Обломала тебя жизнь… Обломала!
А на самом деле жизнь доказала мне, что нельзя подавлять человека. И что добро каждый должен творить по-своему. И что третий в пятом ряду не должен быть похож на пятого в третьем ряду… И что вообще я, учительница, должна видеть не «ряды», а людей, которые стоят рядом… или вдали друг от друга. И что непохожесть характеров вряд ли стоит принимать за несовместимость…
Приобретение этого опыта, увы, стоило жертв, которые я не должна была приносить. Учитель, как и хирург, на ошибки вряд ли имеет право. Хотя нравственное нездоровье, быть может, и не приводит к физической смерти.
«Где твоя былая строгость, непримиримость?» — спрашивали меня иногда.
Не-при-ми-ри-мость… Это значит то, что находится «не при мире». Зачем же употреблять такое оружие в общении с друзьями? Да и вообще есть качества, которые, как скальпель хирурга, не годятся для будничного, повседневного употребления.
«Меня потрясает гнев человека, который гневается раз в году», — сказал кто-то из тех, чьи изречения стоит запоминать.
О непримиримости, я думаю, можно сказать то же самое.
«Хорошо было бы до конца усвоить все эти истины не сейчас, в шестьдесят третьем году, когда мне уже исполнилось шестьдесят три, — думала я, — а хотя бы тогда, в тридцать девятом, когда я совершила свой побег от Вани Белова… И когда мне тоже было, соответственно, тридцать девять».
Эти совпадения (опять совпадения!) всегда забавляли Володю.
— Мамочка, сколько тебе нынче лет? — спрашивал он. И как бы соображал на ходу: — Та-ак… На дворе у нас «год-отличник»: пятьдесят пятый.
Значит, и у тебя, мамочка, — две пятерки!
И в этом году он тоже шутливо напомнил мне, что цифра 63 в календаре совпадает с моей шестьдесят третьей весной.
Я улыбалась этим привычным шуткам. Но не так весело, как четверть века назад.
Ваня остался самим собой — и поэтому я верила, что моя внучка пойдет осенью в школу. Я верила в это.
"Вот для чего нужно было это сегодняшнее совпадение, — думала я. —
Чтобы Ваня спас мою внучку. И чтоб я сказала ему, что все наконец поняла. Не сейчас, конечно, сказала… а потом. Сейчас я его просто буду благодарить, бесконечно благодарить…"
— Иван Сергеевич! — воскликнула Маша и, на бегу поправляя прическу, бросилась навстречу огромному мужчине, который выходил из операционной.
Он стянул с лица белую марлевую повязку и вытирал ею лоб.
Я не могла идти… Я схватилась за Машин столик. Ноги стали тяжелыми.
Он сам подошел ко мне.
— Очнулась ваша царица.
«От чего?» — хотела спросить я. Но не спросила.
— Отчество-то ее не Петровна?
Я ничего не могла ответить. И заплакала. Он осторожно погладил меня:
— На свадьбу-то пригласите?
— Спасибо вам, доктор.
Он снова погладил меня откуда-то сверху. Пальцы у него были длинные, крепкие. Со лба на щеки и нос, покрытый веснушками, стекал пот.
Про все я успела спросить у Маши. Про все… А о росте забыла.
Ваня-то был невысокий…
5
Иван Сергеевич попросил меня «не настаивать» на немедленной встрече с Елизаветой.
— Она примет вас завтра, — пообещал он. — Или послезавтра. Сейчас ей нельзя разговаривать.
На круглых часах над дверью операционной было семь минут третьего.
Я поняла, наконец, что часы стоят.
Сестра Маша проводила меня до конца коридора.
— Повезло вам, что Белов оказался здесь. Он редко дежурит. И операция редкая. Несложная, конечно… Но аллергический шок получился.
— Что… это?
— Совсем было плохо. Теперь уж я вам сознаюсь.
Она все время склонялась ко мне, обнимала за плечи. Длинные серьги еле слышно позванивали.
— Я до утра присмотрю за ней. — Мы дошли до конца коридора. — Иван
Сергеевич перед операцией, чтобы проверить, как она там, спросил: «И как же тебя зовут?» А она отвечает: «Елизаветой».
— Так ее и зовите, — попросила я. — А то еще не откликнется…
Значит, это были не практиканты?
Она не ответила.
Я стала спускаться вниз.
"Много людей прошло через мою жизнь, — думала я. — А эти двое останутся со мной навсегда: Иван Сергеевич, Маша… И Ваня Белов. Он тоже был рядом. А отца-то его звали Андреем… Андреем, а не Сергеем.
Как же я забыла? Такой милый, застенчивый человек. Все время предлагал снять пальто. А я говорила, что пришла на минутку. Мама Ванина, тоже милая и застенчивая, смотрела на мужа с укором и говорила: "Что же ты,