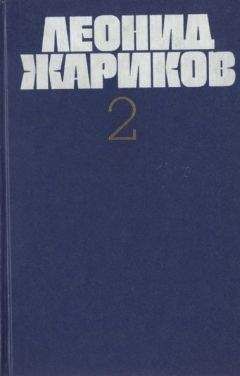Фрида Вигдорова - Это мой дом
Я сел рядом и взял его руку, в ответ он крепко стиснул мои пальцы.
– Хорошо, что это меня стукнули, за другого вам больше досталось бы, – сказал он, и слышно было – он с трудом разжимает губы.
К горлу у меня подступил ком. Я молчал.
– Вам Колька все рассказал? Такие, понимаете, архаровцы, бандитские рожи… Езжайте обратно, там небось уж комиссия.
– Сегодня выходной.
– Да они не поглядят на выходной…
Мы говорили негромко, но в палате стояла тишина, к нашему разговору прислушивались. Вдруг отворилась дверь и вошла девушка лет двадцати. На ней был белый халат, но я сразу увидел, что это не сиделка. В то утро странное у меня было чувство – без слов, без объяснений я знал, что происходит.
– К тебе пришли, – сказал я Мите, уверенный, что это и есть та девушка, которую выручили наши ребята.
Осторожно пробираясь между коек, прижимая к груди какой-то сверток, она подошла к нам, от смущения не видя никого вокруг. Присела на край кровати, сверток пристроила на тумбочку и только тогда взглянула на меня,
– Вы его отец? – спросила она несмело,
– Отец, – ответил Митя.
– Это из-за меня, – горестно сказала она.
Она была скуластая, нос пуговкой, глубоко посаженные глаза. Наверно, некрасивая была девушка, но таким открытым и милым показалось мне это молодое встревоженное лицо.
– Так не вы же меня саданули, а те… Вы-то чем виноваты? – откликнулся Митя.
Девушка наклонилась к нему.
– Я пришла сказать спасибо, большущее тебе спасибо, – промолвила она очень тихо.
– Ну вот еще, – ответил Митя.
…Он был прав: когда я вернулся домой, вся комиссия, несмотря на выходной день, была тут как тут. И конечно, она уже все знали. Кляп торжествовал и не считал нужным это скрывать. Случившуюся с нами беду он принял как подарок себе, как доказательство своей правоты.
– Я же предупреждал вас, я же говорил! – повторял он и в голосе его слышались злорадство, ликование и некоторая даже снисходительность, точно к врагу, который повержен в уже не поднимется.
– Вас предупреждали, что отпускать детей одних нельзя, – холодно сказала мне и Веретенникова.
Я молчал. Ни один человек на свете не мог бы сказать мне слов более жестоких и беспощадных, чем я сам себе говорил. Недосуг было думать, что педагогично, а что нет… Один вопль звучал во мне: зачем, зачем я отпустил ребят? Зачем не поехал с ними сам?
– Почему у вас дети не знают элементарнейших правил поведения? Почему они лезут в драку? – услышал я вдруг.
Кто же это полез в драку – Митя, что ли?
– Простите, в какую драку? Они не в драку лезли, а пришли человеку на помощь.
– Разве они не знают, что не их дело вмешиваться в уличные и всякие вагонные происшествия?
Мне кажется – я отупел и уже не понимаю ничего. Что же, они должны проходить мимо? Видеть, как бьют ребенка, обижают девушку, видеть подлость, гнусность – и пройти мимо?
Я смотрю на эту женщину. У нее умное немолодое лицо. Она коммунистка. Она приехала сюда, чтобы проверить мою работу и сказать, как нам жить дальше. Что же она говорит?
– Когда мой сын уходит из дому, он знает, что ни во что не должен вмешиваться. Я это воспитала в нем с детства, я он это усвоил на всю жизнь.
– А когда наши дети выходят из дому, – отвечаю я, – они знают: все, что они увидят, касается их. И если надо помочь, вступиться – они должны, обязаны это сделать. Я это им говорю всегда.
– Потому что вы не отец, – сказала она жестко.
Из всех ненавистных упреков этот для меня – самый ненавистный и непростимый. Если я не отец, не надо вверять мне детей. А если отец, надо верить, надо знать, что и со своим родным, кровным сыном я поступлю так же, скажу ему те слова.
– Я бы презирал своих ребят, если бы они видели, как обижают человека, и не вступились.
– Вот и поехали бы сами, и вступились, – говорит Кляп. Удивительное совпадение! Директор детдома выбивает зуб колхознику. Дерется на глазах у своих воспитанников. А воспитанники лезут в вагонные драки. В результате перелом руки у одного воспитанника, ранение – у другого.
– Другой – не воспитанник, – сухо говорит Казачок. – Он усыновленный.
– У меня есть сведения, – отвечает Кляп, – что питается он вместе с воспитанниками, следовательно…
– Ваши сведения неверны, – с неожиданной злостью обрывает Казачок.
* * *Я знал, что в эти дни решается моя судьба. Ссора с Решетило, следствие по избиению Онищенко, случай в вагоне, сломанная рука Николая, беда с Митей – все сплелось в такой клубок, что комиссия могла сделать самые сокрушительные для меня выводы. Я понимал – речь идет о том, оставаться ли мне в Черешенках или меня снимут с работы. И вот в эти трудные дни я был спокоен и почти равнодушен ко всему. Ко всему, кроме Мити.
Будет ли цел глаз? Вот что мучило меня в те дни. Все остальное попросту не существовало. Увидеть это лицо ослепленным – об этом я не мог, не хотел думать и ни о чем другом думать был не в силах.
Повязку с лица сняли, оставался закрыт только глаз. Рана на щеке оказалась не очень глубокой, врач говорил, что она не опасна, останется небольшой шрам. Но глаз… Я проклинал судьбу за то, что Шеин в отъезде – он бы сразу сказал, как быть. Везти Митю в Старопевск врач пока не разрешал.
Каждый день кто-нибудь из нас, ребят или взрослых, ездил в Криничанскую больницу. Я – реже других: мое присутствие чуть ли не ежеминутно нужно было в Черешенках, этого требовала комиссия, да я и сам понимал – отлучаться нельзя.
Вот в эти-то темные дни приехал к нам из райкома Николаенко. «Эх, не нашел другого времени», – подумал я с неприязнью. Так по-доброму слушал в тот вечер, а приехал в сутолоку, в тревожную пору, когда все не как всегда. Ведь знал – зачем же приехал? Мне принимать его недосуг.
Впрочем, Николаенко не стал ждать, чтобы я принимал и занимал его, как гостя. Он очень мало разговаривал со мной и много – с ребятами. Я видел, как он беседовал с Катаевым. Тот сперва бурчал в ответ (знакомая повадка!), потом стал говорить охотно, и оба чему-то смеялись, и Катаев показывал руку, тяжелую и неподвижную в гипсовой повязке. Николалаенко уехал поздним вечером, крепко пожав мне руку, но не сказав ни слова. Я, понятно, тоже не стал ни о чем спрашивать.
Между тем за моей спиной творились диковинные вещи. Начать с того, что Сизов обратился к Любопытнову с просьбой выбить ему зуб. Он объяснил ошеломленному Петьке, что это необходимо: Онищенко принес в суд справку об избиении а его, Сизова, в больницу не повели, а синяк с тех пор сильно побледнел и кровь из носу больше не течет – теперь уж никто справки не даст. А вот если вышибить зуб…
У Любопытнова достало ума не обращаться с этим ни ко мне, ни к Гале, ни к Казачку. Он пошел советоваться к Лючии Ринальдовне. Та, не говоря худого слова, взяла Сизова за руку и повела в больницу. Старушка врач сказала:
– А я уж сама к вам собиралась. Ротозеи этакие!
И дала справку, помеченную тем же числом, что и у Онищенко.
Когда я позднее спрашивал Лючию Ринальдовну, понимает ли она, что это дело подсудное, сулящее мало приятного и ей и врачу, она отвечала невозмутимо, что все понимает, что она докторшу на это не толкала – докторша, видно, и сама с головой и с сердцем, и знает нас, и знает Онищенко, а что мы ротозеи, так это докторша совершенно правильно заметила. Разве это дело: правые, а окажемся в виноватых? И если я хочу знать, так это Митя велел ей так сделать – да, да, «езжайте в больницу и кричите там сколько душе угодно».
Лючия Ринальдовна сама и отвезла справку в суд, где объяснила, что, мол, бумажка-то нужная, да сразу было затерялась, а теперь вот нашлась. У следователя Лючия Ринальдовна застала Решетило и Онищенко и при них сказала ему, по слухам, такие слова: «Чем это вы, право, занимаетесь – на помоях, извините, сметану собираете».
В суде дело затухало за недостатком материала. Картина, как ни говори, даже и для пристрастного глаза получалась ясная: побои были нанесены, выражаясь юридическим языком, в порядке самозащиты… Да, в суде затухало. Что до комиссии – она уехала, и на прощание Веретенникова сказала, холодно глядя мне в глаза:
– Бесспорно, вы многого здесь добились. Я вижу – хозяйство налажено, мастерские работают. Но это не все, товарищ Карабанов. Есть вещи поважнее, чем мастерские и огород. Мы будем ставить вопрос о снятии вас с работы.
Вечером ко мне пришел Казачок. Мы сидели с Галей молча и молча встретили его приход.
– Ну вот, – сказал он. – Давайте без предисловий. Завтра с утра надо телеграфировать Антону Семеновичу. Срочно. А может, даже выехать в Москву.
– Нет, – сказал я.
– Нет, – откликнулась Галя.
– Но почему, черт возьми? Почему? Разве вы виноваты и просите заступничества?
– Нет, – снова сказала Галя. – Не будем говорить об этом, Василий Борисович.
– Дурачье вы оба, вот что я вам скажу и прощенья просить не стану, – ответил он и, уходя, в сердцах хлопнул дверью.