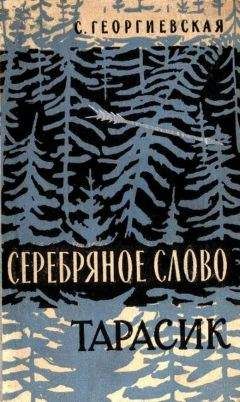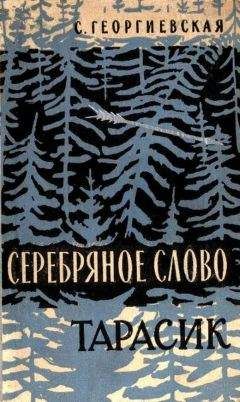Сусанна Георгиевская - Серебряное слово ; Тарасик
Папа перелистывает еще одну страницу.
«…Я очень волнуюсь. Уж сколько времени прошло, как я уехала, и хоть бы одно письмо. Хоть бы твою ручку, Тарасик, кто-нибудь обвел бы карандашом и прислал. Неужели это трудно?»
Папа отшвырнул письмо. В нем не было слова «Богдан».
Ну что ж!..
Глава пятнадцатая
В комнате горит огонек от папиной папиросы. Он, наверно, долго будет гореть.
Долго-долго будут глядеть бессонные глаза папы на то, как неутомимо плетет узор занавеска на голубой стенке. Папины прищуренные глаза будут долго блестеть от злости в темноте.
Долго будут шарить длинные лунные пальцы во всех углах и закоулках комнаты.
Вспыхнет в лунном сиянии паутина под потолком. В паутине вздремнет паук, уютно прикрытый голубым, лунным одеяльцем.
…Хорошо пауку!
А каково папе?
…Протягивает вперед свои длинные прозрачные пальцы луна и поглаживает стопку нетронутых учебников на папином столе.
Она освещает мамину фотографию, которая висит над папиной кроватью.
В свете луны глядит куда-то, поверх папиной головы, молодое, улыбающееся лицо мамы, с чуть раскосыми черными глазами и большим тонким ртом.
«Эх ты, казанская сирота!» — говорит фотографии папа Тарасика.
Мама Тарасика росла в детском доме. Она и на самом деле была сиротой. У мамы нет никого на земле: ни отца, ни матери, ни деда, ни бабки. Никого. Кроме сына Тарасика, его папы и дедушки Тараса Тарасовича.
Семь лет назад папа Тарасика познакомился с мамой в Парке культуры и отдыха. Она взглянула на папу раскосыми черными глазами, в которых отражались цветные фонарики, красиво освещавшие танцплощадку. У нее были две тугие косы. Из-под тюбетейки поблескивала мамина челка.
Сам не зная, как это случилось, папа пригласил ее танцевать.
Маме было шестнадцать лет, а папе — семнадцать.
На танцплощадке погасли фонари. Радиола запела вальс «На сопках Маньчжурии». А на пятачке, посредине Парка культуры и отдыха, духовой оркестр выдувал увертюру из оперы «Руслан и Людмила».
Музыка скрещивалась. Переплеталась. Папа с мамой расхохотались и бросили танцевать.
А через два года папа женился на маме.
«За такое дело я очень свободно могу тебя выпороть!» — сказал, узнавши об этом, дедушка — Тарас Тарасович Искра.
Но было поздно. Еще через год у папы и мамы родился сын.
Мама принесла Тарасика к дедушке в дом (в комнату той богатой квартиры, где на разные голоса пело радио, а в коридоре на стенке висел соседский двухколесный велосипед).
Мама остановилась у дедушкиного порога, низко склонив голову. Она плакала и глядела исподлобья на дедушку.
— Будет тебе реветь, казанская сирота! Давай садись, — сказал дедушка.
(Вот оттуда оно и пошло с тех пор — «казанская сирота»).
Мама назвала своего сына Тарасиком. Узнав об этом, дед выпил и прослезился. Он сидел в «Блинной», сморкался в большой носовой платок (платки ему теперь стирала мама), всхлипывал и говорил:
— Звездный сын он мне, а не только что внук. Это надо понять. Это тонко, тонко… По мне назвала: Тарасом!
Так говорил дедушка и разливался в три ручья.
…Откуда было знать дедушке, что он однажды снова, но только не счастливо, а горько заплачет из-за Тарасика. Это случилось как раз тогда, когда папе дали квартиру и Тарасик уехал от дедушки.
Папа тоже не знал, когда танцевал с мамой в Парке культуры и отдыха, что в один прекрасный день ей только то от него и понадобится, чтобы он обводил на листках бумаги карандашами руки Тарасика.
Луна спокойно выкатывается из-за облака. Вся комната залита ее широким сияньем.
…Докатился! — говорит злобным шепотом маминой фотографии папа Тарасика. — Дожил, а?!
И он запускает пальцы в густые русые волосы. (Волосы сейчас же становятся от этого во все стороны торчком.)
…Хорошо!.. Красиво! — говорит маминой фотографии папа. — Что ж! Пожалуйста!.. Я себя за героя, конечно, не выдавал. Маяков я не охраняю… Кто я? Я всего рядовой монтер.
…Но почему, когда он говорит все это, словно плывет и движется комната, освещенная отблеском белого снега? Зачем так светится край тарелки с молочной лапшой? Зачем покачивается длинным туловищем угловой человек на стенке?
Папа хватает листок бумаги и синий карандаш, подходит к кровати Тарасика и быстро-быстро обводит карандашом руку Тарасика. Он аккуратно складывает листок и запечатывает его в конверт.
Вспархивает на окне от ветра занавеска.
Папа подходит к окну и срывает занавеску. (Ведь ее повесила на окошко мама!)
Занавеска, мертвая, повисает на папиной руке. Голо и холодно глядит незанавешенное большое окно в сощуренные глаза папы.
На дворе ночь. Под окном снег. Снег блещет и светится спокойным, широким, глубоким сиянием. Он прыскает блестками, горит, как от холодного пожара.
А в небе — луна. Лицо у нее чуть скуластое, а глаза раскосые.
«Соня!» — говорит папа. И опускает голову. На руке у него неподвижная, сорванная с окна занавеска.
Глава шестнадцатая
Дедушка Тарасика — Тарас Тарасович Искра — шагает по городу. Он возвращается домой.
Тяжело ступает дедушка по снежным дорогам усталыми ногами.
Вот он обогнул мост… Позади остались улицы, широкие и большие. За мостом потянулась окраина — улочки узкие, переулки горбатые.
Мигнула навстречу деду знакомая новостройка — большущий дом, окруженный паутиной лесов.
На пустыре у дома, тесно прижавшись друг к другу — как пилюли в аптекарской коробочке, лежат перевернутые вверх дном ванны.
В свете луны поблескивает кирпич, отколовшийся от своих братьев кирпичей. И сияет бочка с известкой. Вся белая. А рядом — белая земля.
На Украине в Опошне, откуда дедушка родом, такой известкой белят хаты, и хаты белые как сахар. Летом там стрекочет трава, потому что поет кузнец. И светляк горит из пожженных трав: насекомое, а имеет фонарь. А на изгороди из кольев сушатся глиняные горшки, сработанные украинскими гончарами.
…Да, да, ничего не скажешь, хорошая на новостройке бочка!
Но вот наконец-то глянул деду в глаза из дальнего переулка маленький деревянный дом. Это дедушкин дом. Он старый. И деревья во дворе старые — большие, с толстыми стволами. Они прожили много лет: может, триста, а может, больше. Их широкие кроны уходят в темное небо. И светятся и горят.
Ну и старательный художник зима! Не поленилась, разрисовала инеем каждую, хоть самую маленькую ветку.
Дед проходит мимо, а дерево сыплет снегом на его теплую шапку. (Для дерева дедушка — мальчик. Дереву триста, а деду только пятьдесят семь лет.)
Дедушка медленно пересекает двор. За ним идет его тень. Плечи у тени сутулые. Она опустила голову. У нее тяжелые, длинные руки. Она стара.
Тень старая потому, что нет у нее глаз, как у дедушки, чтобы видеть город и радоваться ему. У нее нет сердца, чтобы любить своих внуков. У нее нет памяти, чтобы вспоминать свою родину.
Дедушкина тень выражает обиду, усталость. Да мало ли что она может выразить? Ведь это тень человека — не шкафа или стопки книг, поваленных на шкаф. Человечья тень, она самая умная из всех теней на земле.
Дед ступил на крыльцо своего дома. Заскрипело старое дерево. Крыльцо запело: «Где это ты пропадал, хозяин?»
Дед, вздыхая, проходит длинный коридор и отпирает дверь своей комнаты.
В низкие окна его комнатенки заглядывает старый двор — сарайчики, пристройки и лесенки.
Двор освещает луна. Ее голубое сиянье льется спокойно и свободно на крышу сарая, где посреди большого города живут куры.
Дедушка медленно поворачивает выключатель. Под потолком загорается лампа.
Она загорается, а комната темна. В углу стоит старая дедушкина кровать. В другом углу — кухонный столик и стул.
А посреди комнаты — муфельная печь. Его гордость. В ней он обжигает глиняные черепки, ищет цвет своей будущей вазы. Рядом с печкой белый песок — каолин…
Ярко горит под потолком лампа, она не завешена абажуром. Но комната одинока, поэтому она темна.
«Вот здесь, — вспоминает дедушка, — стояла коляска Тарасика, а там Сонина раскладушка, а тут висело зеркало, в которое она любила глядеться».
А теперь комната одинока, поэтому она темна. Медленно, будто к чему-то прислушиваясь, подходит дедушка к муфельной печке и включает ее. Красноватый огонь освещает дедушкины руки.
В комнате вдруг делается светло.
Мастер Искра работает. Цвет эмали — не шутка. Его проверит только огонь.
Ночь… Она в каждом доме, в каждом погасшем, в каждом светящемся в темноте окошке, она стоит, притаившись в подворотнях, ложится на тротуары острыми тенями ларьков, спокойно глядит на землю с черного неба, где низкие звезды и большая белая луна.