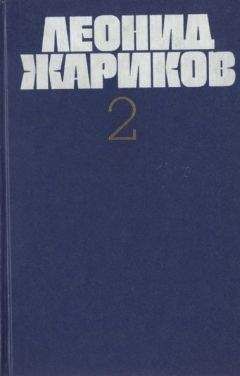Фрида Вигдорова - Это мой дом
…Кляп объяснил собравшимся, что выступление Ольги Алексеевны безответственное. Что она, видимо, не поняла всю серьезность происшедшего… Что ей надо задуматься… И всем членам педагогического коллектива тоже.
Через несколько дней к нам приехал Шаповал и потребовал, чтобы ребята осудили Анютино сочинение:
– Проведите собрание, подготовьте выступления.
Я сказал, что мы не будем проводить собрание и не станем осуждать сочинение Анюты Шереметьевой.
– Мое дело – передать вам мнение товарища Кляпа, – сказал Шаповал, и в голосе его мне послышалась угроза.
Ольгу Алексеевну долго прорабатывали, вызывали в районо, потом в область. Вместе с ней ездила Галя, которой внушали, что ее выступления в защиту педагога Зотовой не имеют веса, поскольку она «вместе с руководством детского дома разделяет ответственность за возмутительное сочинение Шереметьевой».
Это продолжалось бы, наверно, очень долго, но Ольга Алексеевна слегла.
– Ну, а встану, – сказала она, когда мы с Галей пришли ее навестить, – и начнем сначала. Что вы так смотрите, Семен Афанасьевич? Мне не привыкать.
* * *Вскоре после педагогического совета, на котором Кляп читал сочинение Анюты, она подошла к Гале:
– Галина Константиновна, у вас неприятности из-за меня? Из-за сочинения?
– Что ты, Анюта, какие неприятности?
– Ну зачем вы, Галина Константиновна? Зачем скрывать? Я ведь знаю. И все в школе знают. Вот всегда так. Всегда от меня одно горе для всех, – сказала она печально. – Вот и Лида…
Лида Поливанова в те дни подала заявление в комсомол. На заседании комитета комсомола присутствовал Яков Никанорович. Он спросил у Лиды, как она относится к сочинению Анюты и к словам: «Я не знаю, люблю ли я свою родину».
– Я читала «Накануне» Тургенева, – сказала Лида. – Там Елена спрашивает Инсарова: «Вы, наверно, очень любите свою родину?» А он отвечает: «Это еще неизвестно. Вот когда кто-нибудь из нас умрет за нее, тогда можно будет сказать, Что он ее любил». А потом Елена спросила: «А что, если бы вам нельзя было вернуться в Болгарию?» А он ответил: «Мне кажется, я бы этого не вынес». Значит, он любил свою родину но он… он стеснялся об этом говорить. Анюта так написала потому, что тоже… стеснялась.
Выслушав все это, Яков Никанорович строго сказал, что Лидины мысли политически незрелые. И что он не уверен может ли она быть членом ВЛКСМ.
– Известно ли вам, что родители Шереметьевой репрессированы? – некоторое время спустя спросил меня Шаповал.
– Известно, – ответил я.
– Разумеется, – произнес Шаповал, – дети за родителей не отвечают. Но не кажется ли вам, что это тот случай, когда надо проявить особую бдительность?
– Так что же я, по-вашему, должен делать?
– Вы отказались даже провести собрание, между тем я вам сигнализировал.
И тут я разом понял еще одно. Я понял, что Шаповал – хотя ничем Кляпа не напоминает, ни внешностью, ни повадкой, – тот же самый Кляп. Кляп бесчестен. Шаповал, может, и честен, но он – тот же Кляп. Оба они знают порядок, инструкцию, последнее постановление. Одного они не знают: людей. Они бесчеловечны в самом прямом значении этого слова. Они умеют требовать соблюдения правил, они могут «проработать» до полусмерти Ольгу Алексеевну, могут лишить души самое живое слово, лишить жизни самое живое чувство, обессмыслить самую живую мысль.
* * *Ни разу при столкновениях с Кляпом, роно и облоно мне не приходило в голову искать помощи у Антона Семеновича. Вырос большой, значит, справляйся сам. Антону Семеновичу приходилось куда круче в его время. Но только когда он уехал в Москву, я понял, что он от многого меня оберегал, пока работал на Украине. С его отъезда начался шквал вызовов, выговоров и неожиданностей.
– Опять у вас девочки моют полы? – вполне вежливо говорил Шаповал.
– Опять моют! И будут мыть! – со злостью отвечал я.
Потом я получал выговор за самоуправство, за грубость, за непедагогические приемы в работе. Но это были пустяки, малость, главное ждало впереди. Что бы мы ни делали, что бы ни происходило, все каким-то роковым образом оборачивалось против нас.
Уже с полгода как уехала из села Вакуленко. Это было громадной потерей для колхоза и большим лишением для нас. На Урале жил ее сын, он овдовел, остался один с тремя детьми и вызвал мать к себе. Она долго прикидывала, сомневалась и уехала все же. Незадолго до отъезда она пригласила нас с Галей к себе. Больше гостей не было, мы славно посидели и поговорили, а под конец Анна Семеновна сказала:
– Тебе с новым председателем потрудней будет, Афанасьевич. Решетило – это не я. Не лежит у меня к нему душа, не хотела б я, чтоб он заступил на мое место, да уж все порешили. Ну, а тебя он не любит. Давно уж к тебе приглядывается и все говорит: «Больно самостоятельный». Не любит самостоятельных. Он и под меня копал. Ну, а ты тут еще масла в огонь подлил.
– Когда ж это?
– Да летом. Помнишь Онищенко? Это ведь племяш его, сестрин сын.
Вот оно что!
Однажды летним вечером, когда у нас, по обыкновению, танцевала молодежь под баян Захара Петровича Ступки, явился Онищенко – известный всему селу озорник и лодырь, избалованный не в меру доброй матерью. Пока он глядел на танцы, никого не задевая, и его, понятно, никто не трогал. Но вскоре ему надоело сидеть смирно, он начал подставлять ножку танцующим. Тогда к нему подошел Искра и попросил уйти. Онищенко ответил: «Сам иди вон, уродина!»
Степан вспыхнул, шагнул к нему, но между ними встал Митя. «Уходи! – сквозь зубы сказал он. – Чтоб духу твоего тут больше не было!»
Онищенко замахнулся, но не успел ударить – его схватил за руки Василий Борисович и выставил со двора. Онищенко еще долго кричал, бранился, поносил Искру, меня, всех на свете. С тех пор он часто пакостил нам – то запустит камнем в Огурчика, то напишет похабное слово на нашем заборе. Однажды ночью его поймали в нашем саду и сняли с него сапоги. Наутро он пришел за сапогами, но мы отнесли их в правление колхоза. Там ему и пришлось получить обратно свою обувь и выслушать в придачу два-три не слишком ласковых словечка от Анны Семеновны.
Решетило я знал давно. Знал и не любил. Все говорили, что он хороший хозяин, дельный работник, что колхоз он поведет не хуже Анны Семеновны. Но повадка у него была развязная, грубая, с людьми он говорил свысока, и у меня с ним сразу, едва он заступил на место Вакуленко, вышло столкновение.
Я был в правлении колхоза, когда туда зашел директор нашей школы Остапчук.
– Григорий Прохорович, – обратился он к Решетило наша учительница заболела, дай лошадь отвезти в больницу.
– Подожди дождика, тогда получишь лошадь, – сказал Решетило, даже головы не повернув.
– Григорий Прохорович, ты, должно быть, не понял: человек болен, сильно болен, и сердце у нее – никуда. А Шеин на Кавказе – нет его…
– Да что ты пристал? – крикнул Решетило. – Не видишь – уборка! Где я тебе лошадей возьму?
– Иван Иванович, – сказал я, едва сдерживаясь, – идемте к нам, что-нибудь придумаем.
Решетило обернулся ко мне:
– Вот благодетель нашелся! Ну и давай лошадей, если они у тебя свободные.
– Не свободные, а для учительницы найдем.
– Ну и находи, если ты такой добрый! – съязвил он уже нам вслед.
Скрипнув зубами, я не хлопнул дверью, а закрыл ее как положено.
– Как он смеет так со мной разговаривать? Да еще прилюдно? – говорил по дороге Иван Иванович.
– А зачем позволяете? С нами люди ведут себя так, как мы разрешаем.
– Вы думаете? – В голосе Ивана Ивановича сомнение.
С конца августа у него начались новые бои с председателем. Давно уже надо было завозить в школу топливо, но для этого никак не находилось ни свободной лошади, ни свободной машины. То же с ремонтом: каждую пару рабочих рук – столяра, плотника – Иван Иванович только что не вымаливал. Решетило всегда разговаривал с ним спокойно-наглым тоном. Он мог сказать Ивану Ивановичу: «Да иди ты отсюда, не до тебя мне!»
А однажды заявил:
– Если я не починю крышу в коровнике, схвачу строгача, а за крышу в школе мне никто ничего не сделает.
И добавлял иногда с откровенной издевкой:
– Вон поди к Карабанову, он тебе починит.
Прошел октябрь, ноябрь на дворе, а в школе – ни полена дров.
– Почему вы молчите? – спрашивал я, когда Иван Иванович начинал жаловаться на свою судьбу.
– Вы думаете, надо действовать? – говорил он, и в голосе его был такой страх перед решительным шагом, перед необходимостью совершить поступок, словно я толкал его с крыши третьего этажа.
Я бы не сказал, что у Ивана Ивановича была заячья душа. Нет, он обладал чувством собственного достоинства и уважал его в других. С детьми он умел быть ласков и строг. Но он терялся, когда с ним поступали нагло. Терялся и все надеялся на силу доброго, убежденного слова.
– Григорий Прохорович, – говорил он, – ведь это дети, школа.