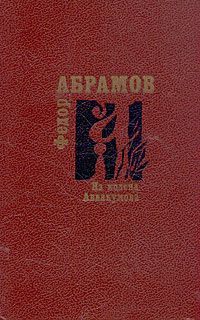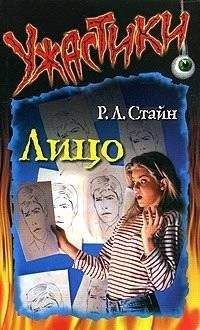Жигмонд Мориц - Будь честным всегда
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
У Миши уже вошло в привычку просыпаться ночью и, устремив взгляд в темноту, раздумывать о всяких необычных происшествиях.
Например, как господин Янош познакомился с Беллой?
Тут дело нечисто, ведь Белла сказала: «Быть может — с удовольствием». Она тогда и понятия не имела, что за птица господин Янош, вовсе не желала знакомиться с ним, а теперь они так весело и непринужденно болтали между собой, стоя перед витриной. Миши готов подумать, что господин Янош бесцеремонно втерся в дом Дороги и всеми правдами и неправдами подговорил девушку совершить какой-то бесчестный поступок. Поэтому она и была вчера такая притихшая и печальная. Завтра же надо пойти и рассказать все тетушке Терек, рассказать Илонке, что господин Янош, этот подлец, замыслил что-то недоброе…
В полусне, полудреме он явственно слышит свой собственный голос, обличающий господина Яноша, видит, как убивается тетушка Терек, плачет в негодовании Илонка, а дядюшка Терек вынимает чубук изо рта, высоко поднимает густые седые брови, восклицая: «Разве можно вовлекать в беду честных девушек!»
Миши ни на минуту не задумывается над тем, в какую беду способен вовлечь Беллу господин Янош, но сердце его сжимается от боли: какая притихшая и жалкая была вчера Белла. И он плачет от предчувствия ужасного, непоправимого, угрожающего ей несчастья, сам не знает, какое оно, но плачет от страха.
Он с нетерпением ждет рассвета, утра, чтобы поскорее одеться и пойти к Тёрёкам. Все и всё вызывает в нем возмущение: он сам, Виола, Шани, их родители, хохотушка Илика, преспокойно спящий Лисняи, мальчики, учителя, вся коллегия, Тёрёки, мороз на улице, высокие городские ограды, собственная участь, слабость и беззащитность. Будь он сильный, как Самсон, он схватил бы Яноша Тёрёка, этого прилизанного, как парикмахер, франта, припер бы его к забору, носом провел по доске, чтобы стерлась какая-нибудь сделанная мелом надпись, вроде «Продается насморк!»
И тут Миши разбирает смех, он улыбается во весь рот, но боится пошевельнуться, чтобы кого-нибудь не разбудить. Если бы волшебник наградил его своими чарами, он прошел бы сейчас через стены, на крыльях вылетел из коллегии (прямо так, закутанный в одеяло, ведь на улице страшный холод, Миши чувствует, как через окно проникает в комнату невидимое дыхание морозной ночи) или незаметно проскользнул бы в спальни, где, сбросив одеяла, спят мальчики, — он прикрыл бы их. Потом ему представляется, как он проходит через заднюю стену здания, пролетает над столовой, двором, черепичными кровлями тихих дебреценских домиков, пока не оказывается над домом Дороги. Вот он пробирается в темную комнату. Миши вздрагивает и трясется от веселого смеха, воображая, что он излучает свет, видимый только ему одному… И тут замечает: в кровати лежит грустная, расстроенная Белла, бедняжка, верно, плачет… И на глаза Миши навертываются слезы. Видение сразу исчезает, и, на минутку вернувшись на землю, он опять принимается фантазировать: хорошо бы очутиться в комнате господина Яноша, съездить ему кулаком по физиономии и расквасить нос, а с распухшим носом он завтра, верней, еще долго не покажется на глаза Белле… Но надо проделать это так, чтобы господин Янош не проснулся — он такой сильный, — а только почувствовал удар, знал, что его избили, и боялся бы его, Миши, одного имени Михая Нилаша, и не смел больше увязываться за Беллой и морочить ей голову… Ах, как он топтал бы этого негодяя башмаками, плясал бы у него на животе и кричал: «Оставишь ты в покое эту девушку, подлец этакий?»
Миши изо всей силы пинает железный прут кровати, так что чувствует даже боль в ноге, и пугается, как бы от скрипа кто-нибудь не проснулся.
Потом он думает: хорошо бы разбогатеть! Изобрести хотя бы такой трюк: встретишь на улице человека — и деньги из его кармана переходят к тебе.
Или встать бы на почте перед барьером, и чтоб ассигнации вспархивали, как бабочки, и падали тебе на грудь. Или по твоему велению, по твоему хотению все золото из подвалов английского банка потекло бы по волшебной трубе в погреб, где у них дома хранится картофель и откуда он горстями выгребал лягушек. Да будь у него столько денег, он раздал бы их людям… Тут Миши делается стыдно. Это как-никак воровство: у кого ни возьмешь деньги, все равно воровство. И почтмейстеру придется возмещать убытки и… А вот завладеть бы ничейным золотом, пусть катятся к нему те монеты, что никому не принадлежат, пусть гонит их ветер, а он будет только подбирать их с пола. Или раздобыть бы магнит, притягивающий золото… Или пусть ему принадлежит еще не добытое из земли золото, отчеканенные по его повелению золотые лежат где-нибудь в пещере, и по словам «Сезам, откройся!» вход в нее растворился бы, и Миши мешками брал бы оттуда золото. Или была бы здесь, в коллегии, комната, а в полу у нее тайник, полный драгоценностей, он бы сильным ударом ноги вскрыл пол и один долго любовался бы сокровищами и только потом показал другим. Сто тысяч пожертвовал бы коллегии для выплаты стипендий — пусть учатся бесплатно, бесплатно получают книги и питаются, конечно, бесплатно, но только дети крестьян, ведь горожане неохотно отдают своих сыновей в коллегию и через год-два обычно забирают оттуда… А в родной деревне, красивой деревушке, утопающей в зарослях орешника, самой лучшей деревне на свете, он всем дал бы денег, кто сколько пожелает, и построил бы на Тисе плотину, потому что река с каждым годом все шире разливается и затопила уже часть кладбища. И вспоминается ему рассказ отца, как однажды затопило старое кладбище, а когда отец, еще мальчишкой, вместе с другими ребятами пас на берегу жеребенка, они нашли размытую могилу, а в ней глиняную посуду. Один парнишка сунул в горшок руку, она стала черная, как сажа, и все над ним потешались. И тут Миши точно наяву видит отца: тот сидит, как обычно, на кровати в жарко натопленной комнате и улыбается доброй улыбкой. Он любит рассказывать разные истории, когда приходит домой веселый, чуть подвыпивший, или в воскресенье утром, когда нет работы. Он не спешит тогда вставать с постели, и они, ребятишки, облепляют отца, пляшут у него на спине и широко раскинутых руках. Миши ощущает железную твердость отцовских рук. Мать как-то сказала: «Нет на свете человека красивей, чем ваш отец. В молодости тело у него было крепкое и белое, как мрамор». Какое счастье барахтаться на постели, прижиматься как можно тесней к его теплым ногам, а он, как большой пес, стряхивает их с себя, точно щенят, и, сев на кровати, принимается рассказывать о Тисской низменности. Как ходили они в ночное и из чистого озорства каждую ночь пускали скот на поле какого-нибудь богача крестьянина, и как он ни подкарауливал их с вилами и топором до самого утра — все понапрасну: он на одном краю поля — они на другом, он здесь, а они уже там и гонят лошадей в пшеницу… Рассказывал и о том, как однажды стащили соль с плота, но нагрянули налоговые инспекторы, и пришлось одному крестьянину, а был он самый богатый в деревне, высыпать всю соль в колодец, и целый год не мог он из своего колодца воду пить, столько соли там растворилось. И тут Миши как будто слышится приятный, сильный голос отца: «А сколько я в Сегед яблок возил! Все на плоту! Господи, сколько яблок! Как-то продал я их да купил вашей матери на три платья материи и целую корзину денег высыпал ей прямо на колени… Ох, создатель небесный, сколько разных дел переделал я за свою жизнь, куда там до меня этим растрепам, они и нос высунуть за околицу боятся…»
Бедный отец, когда он, приехав в деревню, рассказывал о своих проделках, как он задал жару тому да этому, некоторые считали, что с таким голодранцем ничего не стоит справиться, но отец надавал этим богатеям, рохлям таких затрещин, что они разлетелись в разные стороны. «Что правда, то правда, — подтверждала обычно мать, — у отца вашего рука тяжелая и крепкая, как железо». И тогда отец покатывался со смеху…
При этих воспоминаниях сквозь сон приятная теплая волна счастья заливает худенькое, слабенькое тельце мальчика. Он поплотней закутывается в одеяло, прижимает к лицу его согретый уголок, старается представить себе, что обнимает сейчас отца, такого дорогого, теплого, и наконец засыпает, забыв о бедах, невзгодах, обо всем на свете…
Проснулся он поздно утром, когда мальчики шумно и весело умывались. В воскресенье полагалось мыть и ноги. Сначала все по очереди мыли лицо, шею, грудь, а потом в фаянсовом тазу — ноги. Пол был залит водой, и школяры только диву давались, как при этом шуме Миши ухитрился проспать так долго. Ему пришлось мыться самым последним, что тоже вызвало общее веселье.
Он кончил, когда все уже ушли.
Зазвонил колокол, пора было идти в церковь к обедне.
Миши не успел одеться, как явился слуга с веником. Подняв пыль, стал гнать мальчика, чтобы не путался под ногами.
— Отстань от меня, — огрызнулся Миши. — Соберусь и тогда уйду.