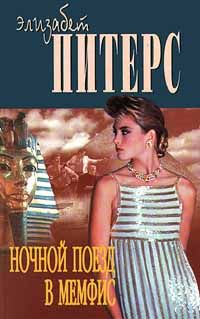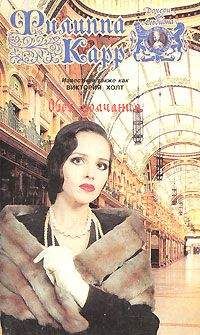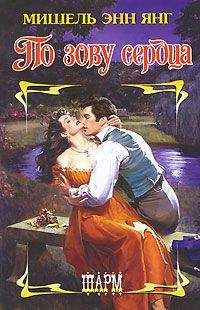Серафима Полоцкая - Роль, заметная на экране
Брови ощетинились, словно колющее оружие, когда он угрожающе сказал:
— Это что за сплетни! Как вы смеете разводить в коллективе смуту? Вас, кажется, зачислили в Большой театр? Придется сообщить… Для советской артистки важен не только талант, но и сознательность…
— Я говорю правду! — воскликнула я.
Он только засопел носом и с достоинством пошел к выходу из коридора.
Видимо, для советской артистки, кроме таланта и сознательности, важно и еще что-то, чего у меня не было. Многие девочки в нашей школе за словом в карман не лезли, могли за себя постоять, я же умела только работать!..
Я увидела осунувшееся лицо Михаила Алексеевича, больше чем всегда похожего на озабоченного филина. Он неуверенно улыбнулся мне и прошел мимо вместе с худым человеком в берете, который молча поклонился. Я кивнула головой, когда они уже прошли, и побрела на верхнюю палубу.
Уже совсем стемнело. Буксиры появлялись из-за поворота с предупреждающим гудком.
Загорелись наши сигнальные огни.
Капитан Иван Агеевич крикнул что-то в переговорную трубку и остановился возле меня. Теперь мы вдвоем смотрели вслед речным путникам и встречали новых. Потом послышались шаги, и третий человек стал рядом с нами. Я даже не оглянулась, такая вдруг охватила меня усталость.
— Ну-ну! Уехало начальство. Проводил! — сказал подошедший, и я узнала Михаила Алексеевича.
— Здорово тебя драили? — спросил капитан.
— Не в этом суть! — грустно воскликнул Михаил Алексеевич. — Он мне говорит, директор-то: если бы мы не были однополчанами, так я тебя еще не так бы взгрел!
— Вы что же, вместе демобилизовались? — поинтересовался Иван Агеевич.
— Он первый, как только получил звание майора, — с готовностью начал рассказывать Михаил Алексеевич. — Его сначала директором птицефермы направили, ну я тогда и напросился к нему на работу. А когда я демобилизовался, он, оказывается, устроился в городе на киностудии. Побоялся в район ехать, все-таки не специалист он в сельском хозяйстве… Тут он сам меня стал звать. Уговаривал, что необходимо опереться на своих людей в новом деле…
Я, как всегда, позже времени взорвалась:
— Думаете, что если уток откармливать, так знания нужны, а для искусства — несколько раз в театре да в кино побывал, и хватит, можно руководить? Мы с детства учимся всю жизнь, на личные жертвы идем, а потом приходит человек, побоявшийся выращивать кур, и начинает нами командовать!
Он сердито фыркнул:
— Думаю, Анна Николаевна не много личных жертв принесла ради искусства! — А потом, усмехнувшись, добавил: — Я просил, чтобы мне прислали замену. Меня на завод завгаром приглашают. Там уж, я знаю, дело по мне… А мой однополчанин пускай сам все кругом возглавляет… Важный стал, только аллилуйщину слушает…
— А как же на партсобрании-то? — удивился капитан.
— Ну, прямо скажу, незаконно тоже он поступил. Мы с Евгением Даниловичем просили дополнительный срок, а Копылевский обещается с балетмейстером в старый уложиться. Валя-оператор за них. Вася и ассистент Лена спорят, что невозможно. Так начальство их в пессимизме, в паникерстве обвинило…
— И что же? — нетерпеливо перебил Иван Агеевич.
— При голосовании наша взяла… Ну, а директор высказался, что дядя Степа, шофер Ваня и я не авторитетны в знаниях…
— Потерявшие совесть люди! — воскликнул Иван Агеевич. — Я тридцать четыре года работаю на реке, всякого насмотрелся. А такое, признаюсь, впервые!
Я поняла, что он говорит не только о директоре, но и об Анне Николаевне с Вадимом. Мы вздохнули втроем, как по команде.
— И что же? — повторила я вопрос капитана.
— Так и не договорились, — снова вздохнул Михаил Алексеевич. — Евгений Данилович про задачи искусства, директор про плановый отдел, а этот, из главка, только вопросы задавал. Сам так и не высказался.
— Но как же они уехали? — возмутилась я. — Артистов вовсе не спросили, общего собрания не было…
— Считают, что дело внутристудийное.
— Как?
— Ну, одной только киностудии касается…
— Ничего себе! — иронически сказала я, чувствуя, что вскипаю. — Только и со студийными не очень считались. Комсомольцы что же, не люди?..
— Ох, Раюша! — жалобно воскликнул наш директор группы. — У меня язык опух, начальству объясняючи…
— Без всякого толка, как видно, — не считаясь уже ни с разницей положения, ни с возрастом, сказала я. — Куда же они поехали, если ничего не решено?
Он отмахнулся от меня и пошел к трапу. Опустился на несколько ступенек и под лампочкой все же оглянулся, с неожиданной теплотой посмотрев на меня.
— В обком, утрясать, — ответил он и добавил: — Не расстраивайся, достаточно, что у взрослых мозги от забот набекрень съехали…
Капитан тоже направился к трапу и через несколько секунд, уже снизу, донеслось:
— Тридцать четыре года на реке, а такого…
Я осталась наедине со своей приятельницей-речкой. Она ласково журчала на быстрине и почти без плеска обтекала наши борта. Ветер стих, стало теплее, и она опять притворилась тихоней. И опять потянуло плыть куда-то по этой украшенной сигнальными огнями воде. Подальше от «тех» и от раздоров на «Батыре».
Пускай на глобусе ты кажешься листком,
Занесенным случайным ветерком,
Башкирия моя!..
Уплыть бы на буксире номер тринадцать! И взять с собой Евгения Даниловича… Он подошел бы тем людям. Он тоже делает дело ради самого дела, а не для того чтобы завоевать положение или покрасоваться.
Но нельзя же оставить «тем» спящего в моей каюте Анвера! И Зяму с Леной нельзя. А всегда сердитого Васю, который так меня обругал? А девушек кордебалета? Нет, нет и нет! Я не хочу им оставлять даже самовлюбленного Виктора, даже парней из тонвагена, которых почти не знаю.
И я не могу ждать в сторонке, если даже всего одно-единственное дорогое людям дело попадет в руки таких, как Анна Николаевна и Вадим.
Нельзя успокаиваться тем, что это нехарактерный, исключительный случай. Не должно быть ни одного. И пусть у меня от споров опухнет язык, а в голове от забот все съедет набекрень.
* * *— Где живут Мансур и Гюзель? — спрашивала я под окнами домов в Старом Куштиряке.
Пока я добежала до деревни, наступила ночь. Из окон старых домишек уже не просачивался свет. Из темноты мне что-то отвечали по-башкирски. Я, ничего не понимая от волнения, отходила к следующему дому:
— Где живут Гюзель и Мансур?
В ответ опять что-то объясняли по-башкирски. Из коровников доносились громкие вздохи и мерное пожевывание, кое-где лаяли собаки, а я бежала дальше. Мне помнилось, что Гюзель рассказывала, как, вернувшись с работы в перерыв, застала нашу репетицию. Значит, она должна жить где-то здесь. Когда единственная улица деревни кончилась, я уже смело постучала в дверь последнего домика:
— Гюзель! Мансур! Вы здесь?
Послышались шаги, и дверь отворилась.
— Р-р-рая, вы? — узнала я голос Ивана Дмитриевича и очертания его коренастой фигуры.
— А что вы тут делаете? — удивилась я. — Мне Гюзель нужна…
— М-мы с «козликом» здесь живем… Н-на пароходе тесно… Гюзель внизу, в н-н-новом…
— Нет, она где-то здесь! Она говорила…
— Т-тут родители, а она с Мансуром. Н-н-но, что случилось?
— Долго объяснять, Иван Дмитриевич! В общем, я хотела у них переночевать…
— И-идемте, провожу, — сказал он и, сойдя с крыльца, повел меня к спуску.
Конечно, по дороге я рассказала ему все, вплоть до того, что, вернувшись в свою каюту, нашла Анвера все еще на койке боцмана. Утаила лишь, что, пожалев съежившегося от холода верзилу, я укрыла его своим фланелевым халатом.
Лихой шофер, Иван Дмитриевич показал себя медлительнейшим из пешеходов.
— Т-тише, ногу зашибете! О-о-осторожно! — только и слышала я от него всю дорогу, пока мы не остановились у большого дома, и он, барабаня в темное окно, объявил: — 3-з-здесь!
Конечно, меня угощали чаем. Достали из погреба молоко. Кажется, я пила и чай и молоко, но при этом не переставая говорила. Я не пыталась объяснить, почему прибежала именно к ним. Я и сама поняла только позже, что на пароходе меня, как самую младшую, все подавляли своим авторитетом. Я растерялась от всех сложностей, всех «за» и «против». Мне же казалось важным решить все самостоятельно, просто, по совести. Но в одиночестве я не хотела этого делать, и та спокойная искренность, которую я с первой встречи почувствовала в Мансуре, привела меня в Куштиряк. Разбираться в этом было некогда. Мне казалось, что я должна подробно рассказать все происшедшее, если явилась непрошеным гостем, да еще ночевать.
Мужчины, выслушав, продолжали молчать, а раскрасневшаяся от волнения Гюзель сказала:
— Этого не может быть! Я не верю!