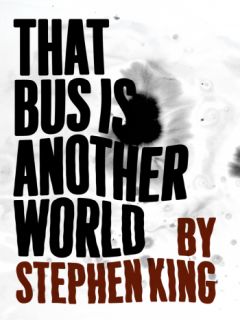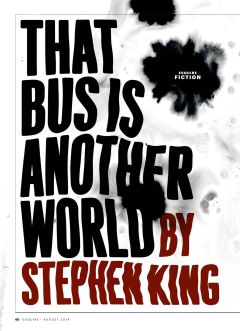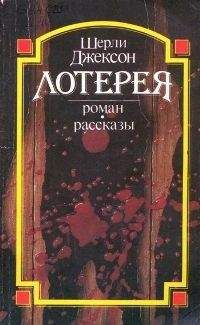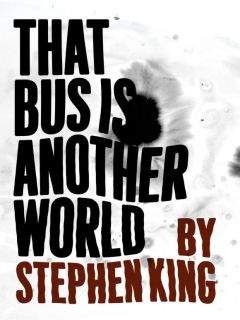Георгий Караев - 60-я параллель
ЧАСТЬ II
59°46' С.Ш. 30°15' З.Д.
Глава XVI. АВТОМАТ «443721»
Июль месяц прошел для интенданта второго ранга Жерве быстро, даже как бы в каком-то тумане.
Правда, самое горячее желание Льва Николаевича исполнилось уже в первых числах месяца: его мобилизовали. Идя по улице в морской форме, он уже не испытывал неловкости перед встречными. Никто теперь не мог подумать о нем: «А почему, собственно, не в армии этот здоровый, крепкий, коренастый человек? Почему он не на фронте?»
Назначение в часть, однако, задерживалось со дня на день. Льву Жерве не терпелось очутиться как можно скорее где-нибудь в действующих соединениях, а его всё держали при Экипаже.
Правда, бездельем его пребывание там назвать было нельзя. Почти ежедневно его посылали то в ту, то в другую из береговых частей. Он проводил беседы, читал свои рассказы, делился воспоминаниями о той, первой войне с немцами... Но ему хотелось совсем другого; он докучал начальству постоянными жалобами.
Дни летели стремглав. Жерве привык бежать из дома по первому телефонному звонку, возвращаться к себе на угол Мошкова и Дворцовой набережной уже по «ночному пропуску» то в два, а то и в три часа ночи. Нет, дела было много; но всё это казалось ему не тем, не тем, что нужно.
В последних числах месяца, наконец, назначение состоялось. Через два дня ему предписывалось выбыть из города «в распоряжение начальника политотдела БУРа», — так было сказано в командировочной. Таинственное и почему-то знакомое обозначение «БУР» заинтриговало его. «Б» — вероятнее всего, значило: «балтийское». Что же до «у» и «р», — эти буквы могли иметь какой угодно смысл: «управление разведки», «управление по ремонту», — выбор был неограниченным.
Дома у стола он внезапно всплеснул руками: «Безобразие!» Как он мог совершенно забыть об Асе и ее поручении? Нет; вот это уж настоящее свинство.
В самом деле, именно на Асином служебном удостоверении он видел такие же точно буквы: «БУР». Правильно: отправляться ему было приказано с того же Балтийского вокзала! .. Так — кто знает? — может быть, там их военные пути скрестятся? .. А он целые три недели проносил в портфеле квитанцию фотоателье, переданную ему девушкой на вокзале, и так и не удосужился зайти за ее карточками! Чорт знает что!
Назавтра писателю Жерве предстояло дело почетное, но несколько его смущавшее: надо было поехать в один из флотских госпиталей и читать там свои рассказы раненым, только что прибывшим с поля боя, — в основном с рубежа реки Луги от Кингисеппа.
Командование придавало этой встрече большое значение, а Лев Николаевич испытывал перед нею нечто вроде страха. Всё, что он когда-либо написал и напечатал, вдруг начало казаться ему таким серым и бледным, таким не идущим ни в какое сравнение с часами жестокого боя, только что — буквально сутки назад — пережитыми этими людьми. Ему было заранее неловко говорить героям живым о героях вымышленных. Да захотят ли они слушать его? Ведь он не жил в 1812 году; он не ходил на Париж, не участвовал в бою под Красным, о котором писал... Что же он мог сказать нового им, им — настоящим воинам?
Он долго колебался, десять раз менял решение и, наконец, набил весь свой портфель томиками книжек, разрозненными листами рукописей, свежими гранками... Там видно будет, что именно прочесть.
Утром он поехал туда, немного нервничая и волнуясь.
В фотографии на Невском, возле Мойки, ему не без труда извлекли из груды одинаковых конвертов один, с красной карандашной надписью по диагонали — «Лепечева Анна Павловна».
«Фельдшер Лепечева» смотрела на него широко открытыми, задумчивыми и рассеянными глазами; она точно сама удивлялась своему кителю с «полутора средними нашивками», своему берету и большой белой эмблеме на нем. Было похоже, что она хочет спросить: да правда ли всё это, на самом-то деле?
Лев Николаевич, прежде чем уложить конверт в портфель, между набитыми в нем листами бумаги, несколько минут вглядывался в детское и одновременно значительное, милое, застенчивое лицо... «Настоящий человек из нее может выйти, — подумал он. — Может, если...»
По дороге на Фонтанку он не один раз возвращался мысленно к Асе и ее судьбе. Странная, не всегда понятная вещь — жизнь! Что же на самом деле произошло, например, с матерью этой девушки? Несчастный случай или всё-таки какое-то тщательно подготовленное и очень хорошо замаскированное преступление? Кто, почему, с какими целями мог пожелать смерти пожилой женщине, члену партии, давно отошедшей от всех дел и забот, кроме научной работы в Институте истории?
Врагов, как все знали, у Антонины Гамалей-Лепечевой не было; оснований для попытки ограбления — никаких... Она ехала после лечения из Крыма в Ленинград, благополучно миновала Москву... А утром (три года назад, в такой же июльский день) путевой обходчик между станциями Окуловкой и Угловкой заметил в дорожном кювете тело женщины в кожаном пальто, очевидно упавшей на полном ходу из вагона скорого поезда.
Документов при погибшей не оказалось. Лишь после долгих розысков удалось установить ее имя. Произведенное следствие ни к чему не привело... Странно всё это; очень странно.
В другое время Лев Николаевич, раз напав на такую тему, без конца перебирал бы в мыслях всевозможные ее решения, измышлял бы его варианты. Сейчас он скоро отвлекся, начал думать о другом.
Около коней Аничкова моста ходили инженеры с рулетками, измеряли статуи, что-то прикидывали... «Снимать будете фигуры, что ли?» — спрашивали в собравшейся толпе. «Ах, чтоб им, проклятым!» — не надо было объяснять, к кому это относилось.
В знакомом дворе Дворца пионеров стояло множество закрытых брезентом военных машин. Несколько далее на Фонтанке покачивалась баржа; на нее грузили такие предметы, какие никто и никогда не возил на баржах: швейные машинки, кое-как окрученные рогожей, кровати, чемоданы, сундуки, множество разноцветных тюков, с адресами и фамилиями: «Архаров 3. П. Отправление: Ленинград, Петроградская сторона... Назначение Гаврилов-Ям, Ярославской области, база ЖТКЗ. Трифоновы, Б. и Д...»
Дюжина мальчуганов недоуменно взирала на эту погрузку. «По Мариинской системе, видимо, повезут? — подумал Жерве. — Почему?»
В коридоре госпиталя и в кабинете замполита, где его просили обождать несколько минут, так остро пахло бедой человеческой, — лекарствами, дезинфекцией, больницей; так много лежало на столах рентгеновских пленок, изображающих страшные ранения, чудовищные переломы; так часто пробегали мимо озабоченные санитары и сестры с какими-то непонятными предметами в руках, что Льву Николаевичу стало не по себе. В последний момент, когда за ним уже пришли, он еще раз передумал: «Нет, не этот рассказ, другой!»
Торопливо, волнуясь, он присел на крашенную нежно-голубой краской батарею отопления и в спешке долго не мог найти среди своих рукописей ту, нужную. То, что над ним стоял, вежливо отвернувшись в сторону, врач в белом халате, еще более смущало его.
Наконец, он кое-как окончил розыски и минуту спустя уже сидел за столиком в большой белой палате, где было светло и до боли в глазах чисто, где на койках лежали, сидели на табуреточках, с трудом передвигались на непривычных еще костылях люди, вчера только смотревшие в глаза смерти... Люди эти встретили его, здорового, тыловика приязненно и приветливо. Они ждали, что он скажет им что-то нужное и важное, писатель. И новая гордость за искусство, новая робость перед его удивительной силой сдавила ему горло на первых словах.
Чтение, однако, прошло очень хорошо. Он выбрал именно ту тему, которая оказалась близкой воинам и морякам: много лет назад, по неисповедимой игре судьбы, петербургскому гимназисту шестнадцатилетнему Льву Жерве, сыну инженера, случилось, плывя на маленькой норвежской лайбе в Англию, оказаться прямым свидетелем крупнейшего морского сражения прошлой войны, боя у Скагеррака между английским и немецким флотами. Он, как умел, описал, много позднее, неописуемое — этот страшный и позорный день.. Позорный не только для Германии, которая не сумела победить, не только для Англии, тоже не нанесшей противнику поражения, — позорный для всех капиталистических флотов, для всего того мира вообще.
Его слушали, не отводя глаз от его лица. Ему задали много вопросов: неужели он сам видел это?
Потом его повели к начальнику госпиталя. Потом с ним беседовал заинтересованный его чтением замполит. Наконец его отпустили. Он опаздывал в какое-то другое важное место и, наскоро затолкав в портфель рукопись, извиняясь за торопливость, убежал.
Следующий день был для него кануном отъезда из Ленинграда. Собирался он в большой спешке. Как всегда, хотя он готовился к отправке уже месяц, в последний миг всё оказалось недоделанным: нашлись вещи, которые хотелось прибрать получше; нашлись телефонные переговоры, отложенные на самый крайний час, письма, не допускающие никак, чтобы их написание было отсрочено...