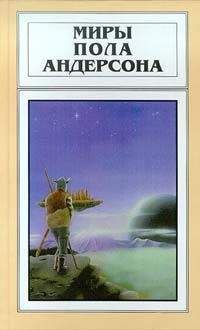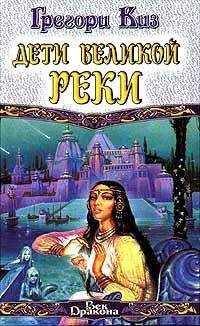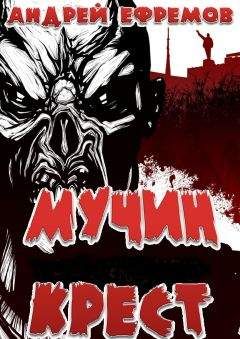Елизавета Кондрашова - Дети Солнцевых
Все засмеялись.
— Однако теперь я вас оставлю, а вы без шуток, серьезно подумаете о завтрашнем дне. Вы уже не маленькие, — сказала Марина Федоровна и вышла из класса, но через минуту вернулась с книгой, села у стола, раскрыла ее и стала читать, не поднимая головы.
В других классах было тоже не менее оживленно. Все готовились к празднику и готовили подарки своим родителям, родственникам, обожаемым «предметам» и друг другу. Одни вышивали шелком, бисером, стеклярусом и шерстью сувениры по бумажной канве; другие разматывали шелк, серебряные и золотые нитки; третьи подбирали и складывали пустые скорлупки грецких орехов парами, потом, положив по две или по три горошинки внутрь каждой пары, заклеивали скорлупки воском, заворачивали их плотно хлопчатой бумагой, выравнивали, стараясь придать форму правильного шара, обматывали аккуратно нитками и передавали записным искусницам, которые, подобрав общими силами и не без споров оттенки шелка, начинали отделку. Шары в их руках скоро преображались в красивые пестрые, разноцветные мячики. Разнообразие рисунков и цветов на этих мячиках было замечательное. Были и клетчатые, и полосатые, и треугольниками, и звездочками, были и одноцветные, подобранные в тон, и в два-три цвета, были и всех цветов радуги. Каждый оконченный мячик переходил из рук в руки и вызывал восторг, критику и подражание.
Те из барышень, которые не умели сами работать, смотрели из-за плеча работавших или стояли перед ними на коленях. Они обычно были на посылках у первых. «Принеси то, сделай это, обрежь, спроси, принеси, отнеси» — только и слышались команды. Готовые мячики разных рукодельниц складывались очень часто и очень бережно вместе, сравнивались, вызывали споры и восклицания. В классе Марины Федоровны были тоже три-четыре искусницы, которые уже с Великого Поста были завалены просьбами подруг, приготовленными вчерне шарами и свертками размотанного шелка и мишуры.
Вечером, по приходе в дортуар, Марина Федоровна позвала к себе в комнату одну из воспитанниц, потом другую, третью, поодиночке, и подолгу говорила с каждой из них с глазу на глаз. Одни выходили от нее заплаканные, другие смущенные или спокойные, но все в бодром, смягченном настроении. Одной из барышень Марина Федоровна напоминала какую-нибудь забытую ею провинность, другую убеждала извиниться перед кем-нибудь, обиженном ею; третью, упорно стоявшую на своем, уговаривала примириться с подругой, с которой она рассорилась и несколько месяцев не разговаривала.
— А ты еще молишься каждый день и просишь Господа отпустить твои прегрешения, как ты отпускаешь обидевшим тебя, — говорила она. — Неужто ты не думаешь о том, что говоришь, и так только, как попугай, повторяешь заученные слова? Верно, так. Иначе ты не могла бы столько времени сохранять злобу против Любочки Орловской из-за каких-то пустяков. Вспомни слова Христа, которые батюшка не без умысла заставил тебя читать в классе… «Если ты принесешь к жертвеннику дар свой и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди принеси дар твой». Подумай только, можешь ли ты удостоиться принятия Святых Тайн, если от души не примиришься с твоим бывшим другом…
Катю Марина Федоровна тоже позвала к себе.
Девочка торопливо вошла.
— Друг мой, — начала Марина Федоровна, — скажи откровенно, не приходило ли тебе когда-нибудь в голову, что твоя сестра не совсем чужда исчезновению работы Буниной?
Катя замялась, покраснела и ничего не ответила.
— Я почти уверена, что это дело рук маленьких шалуний, среди которых твоя сестра играет непоследнюю роль. Поговори с ней теперь, когда она готовится к исповеди и принятию Святых Тайн, когда ее душа не может не размягчиться. Не пугай ее, не заставляй сознаться тебе, этого не нужно, но убеди ее, заставь понять, что это большой грех, и пусть она от всей души покается в нем. Если она теперь не сознает, не поймет своего поступка, если в ней не пробудится совесть, если она не почувствует стыда и сожаления, что так поступила, из нее со временем может выйти очень дурная женщина. Столько хитрости, столько скрытности в маленьком существе! Страшно за ее будущее. Постарайся, душа моя, лаской и убеждением на нее подействовать. Дай Бог тебе преуспеть в этом. Говори с ней любя, без досады, не теряй терпения, не стращай, старайся затронуть ее совесть, подействовать на ее добрые чувства…
В понедельник на Страстной неделе во всем доме с утра царила тишина, спокойствие и общее молитвенное настроение. Все фортепиано были закрыты и заперты ключами, дети не бегали, а ходили чинно. Нигде не было громких разговоров. В церковь собирались в полнейшей тишине. Из церкви шли в классы молча. В классах, сидя близко друг к другу, голова к голове, по четыре и по пять человек, обнявшись руками за талии или положив руки на плечи одна другой, воспитанницы читали Евангелие. Средняя читала вслух, остальные слушали, следя глазами по книге.
В маленьких классах Евангелие читала вслух пепиньерка или какая-нибудь из немногих девочек, отличавшихся умением читать по-старославянски. После обеда, в течение всей недели позволялось на рекреации не гулять парами по залам, а можно было ходить свободно, с кем угодно, или сидеть. Большая часть детей среднего и маленьких классов, с молитвенниками в руках, повторяли или учили предпричастную молитву. Старшие ходили по нескольку человек вместе, о чем-то тихо рассуждая.
В два часа воспитанницы сидели по классам. В эти дни всем предоставлялось право избирать занятие по желанию, но никому, даже самым маленьким, не приходило в голову доставать из пюпитров свои игрушки. Дети или, хмурясь и морщась, вытягивали на спицах неровные петли своих давно начатых подвязок, или чертили буквы и цифры на грифельных досках. Никто не позволял себе ни смеха, ни споров, ни пустых разговоров. Везде было тихо, спокойно. Временами только, когда где-то отворялась дверь, в класс доносились отдаленное церковное пение и замирающие, чуть слышные звуки скрипки.
Вот кто-то отворил эту дверь, и вдруг, как бы вырвавшись на свободу, ясно послышались два-три слова молитвы.
— Это «Чертог Твой вижду, Спасе мой…», — сказала вполголоса одна из взрослых девочек.
Все затаили дыхание.
— Теперь «Ныне силы небесные…» [112]
И так сидевшие в классах долго прислушивались к спевке или уроку пения своих подруг, обладавших голосами.
После раздачи хлеба, в четыре часа, воспитанницы опять разошлись по зале и сидели или стояли группами.
Варя, смирная и спокойная, как и другие, сидела на скамейке с полудюжиной подруг своего класса и слушала, как одна из них рассказывала остальным о прошлогоднем говении.
— И как Нина плакала! — говорила она. — Представьте себе, ей два года кряду пришлось подходить к чаше в то время, когда поют слова «яко Иуда».
— Еще бы не плакать! — заметил кто-то из сидевших на скамейке.
— Да, это страшно, — сказала другая девочка, вздохнув. — Мне, слава Богу, этого никогда не приходилось.
— Варя, походим вместе, если ты не устала, — сказала Катя, подойдя к группе детей.
— Походим, я очень рада, — сказала Варя, вставая.
Она взяла сестру под руку, и они пошли по зале.
— Вы что делали сегодня утром? — спросила Катя.
— Читали Евангелие, потом я кое-что переписывала. Мне нужно было.
— Урок? — спросила Катя.
— Нет, письмо, которое ты велела маме написать.
— Кончила?
— Нет еще. Завтра кончу.
— Да, а как ты теперь с Буниной, я все хочу спросить, — вдруг сказала Катя.
— Ничего, теперь она шелковая.
— Я думаю, тебе все же жаль теперь, что с ней тогда такая беда случилась. Бедная, она и теперь, как вспомнит о нем, все плачет. И правда, она истратила все, что у нее было, все до последней копеечки, и вдруг такое горе.
— А она сама зачем другим горе делала? — сказала Варя.
— Ей делали горе вы, и она вам его делала, только не такое же. Она говорит, что для нее все пропало с этим платком. Я думаю, что если б у тебя вдруг пропал твой альбом, как бы тебе было жаль его.
— Он не может пропасть; никто не смеет его тронуть.
— А разве ее платок смел кто-нибудь тронуть? Ты еще не трудилась над своим альбомом; он тебе так достался, и ты не тратила на него ни копейки. А она для платка свое жалованье отдавала, каждую минутку свободную работала, более двух лет сидела над ним. И для чего? Для того, чтобы он пропал?…
— Что же, сама виновата, — развела руками Варя. — Теперь уж если бы даже и захотели, ничего нельзя сделать.
— Да… А какой ужасный грех так сделать, как сделали с ней! Помнишь, папа сказал тогда, в последний вечер, что некоторые люди живут на несчастье других, помнишь? Он еще говорил, что молится, чтобы Господь избавил всех нас от этого. А Бунина говорит, что эта пропажа сделает ее несчастной на всю жизнь.