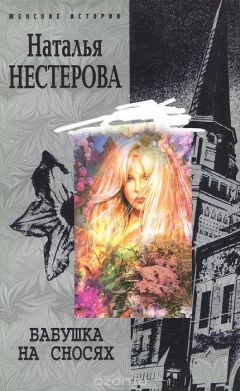Анатолий Алексин - Тридцать один день
— Ага! Сейчас первым делом к врачу потащат! — шепнул Андрей.
Но нас к врачу не потащили, а сперва распределили по комнатам. Комнаты чистые-чистые — даже на пол ступать страшно: боишься испачкать. В каждой комнате стоят пять кроватей и тумбочки. Белье, салфетки на тумбочках — и все, все белое, прямо сверкает. И стены тоже белые и пахнут мелом и морем.
Раньше в этих домах было общежитие какого-то техникума. А теперь техникума нет: он во время войны эвакуировался и не вернулся назад.
В одноэтажном доме живут девочки, а в двухэтажном — мальчишки. Наш, старший, отряд — на втором этаже. Андрей попросил, чтобы его, Профессора, Капитана и меня поселили в одной комнате. Катя разрешила. Просто удивительно!
Пятым к нам в комнату поместили Левку Козлова. Он привез с собой рубанок, напильник и еще какие-то инструменты. Левка всю дорогу что-то строгал, пилил. Еще в вагоне его прозвали «Мастером».
Из окон нашей комнаты была видна извилистая дорога. С обеих сторон ее окружали те самые тополя, которые в книжках называют «стройными». Дальше, за дорогой, было широкое кукурузное поле. А еще дальше поднимались горы. Я всегда думал, что горы наполовину темные и наполовину белые от снега. А тут они были почти все зеленые, как поле, и только макушка была белая, как будто на самом краю поля росло много-много одуванчиков.
Оказалось, что отряд девочек был на пляже. А нас встретили дежурные.
Нам дали полотенца, по куску мыла, и мы тоже пошли на пляж мыться. Мыло было какое-то странное, похожее на черную лепешку. Оказывается, то мыло, которое в магазинах продают, не мылится в морской воде.
Мы купались в море!
Я лег на песок, и теплые волны обдавали меня с ног до головы. Я нахлебался соленой воды и долго отплевывался.
— Тебе что, море не нравится? — спросил Профессор.
— Еще как нравится!
— А чего же ты плюешься?
— Это я от радости плююсь!
— Оригинально!.. — ответил Профессор и скрылся под водой.
И я тоже нырнул.
А потом все хохотали и брызгались.
Но не прошло и десяти минут, как раздались звуки горна. Катя приказала нам вылезать. Вот тебе и на́!
Катя подавала свои команды с берега, а мы делали вид, что не слышим и не понимаем, о чем она там кричит. И я тоже приставлял ладонь к уху, а потом разводил руками: дескать, ничего не слышу!
Тогда Катя в своем полосатом купальном костюме и голубой резиновой шапочке сама бросилась в воду и в один миг доплыла до нас.
— Живо на берег! Не то на три дня лишу купанья! — сердито крикнула она.
Мы тут же перестали строить из себя дурачков и полезли на берег.
— Ага, сразу услышали! — усмехнулась Катя.
А Витька Панков дождался момента, когда огромная волна, всё заглушая, обрушилась на песок, и гордо произнес:
— А мы вас вовсе и не боимся! Не запугивайте, пожалуйста!
Но слышал его слова только я один, потому что стоял рядом, а Катя, конечно, ничего не слышала. И Витька это очень хорошо знал.
— В другое время можете барахтаться, а ведь сейчас устали с дороги, — сказала Катя.
Как будто она лучше нас знает, устали мы или нет!..
Мы попросили, чтобы после обеда нам разрешили погулять и осмотреть город, но нас заставили идти на «мертвый час». Его теперь называют «тихим часом». Но, мне кажется, название «мертвый час» больше подходит: умереть можно со скуки! Ложась в кровать, Андрей заявил, что с такими порядками нужно бороться. И мы будем бороться!
Я достал бумагу и решил написать письмо папе.
Мой папа не герой, как у Капитана, он даже вовсе не был на войне. У него всего одна медаль — «За доблестный труд». Такая медаль есть почти у всех взрослых. Мой папа — мастер в цехе. Конечно, мне бы хотелось, чтобы папа тоже был Героем Советского Союза. Но все равно он очень хороший. Я его сильно люблю и всегда с ним советуюсь. И вот сейчас я решил написать ему письмо.
Я терпеть не могу писать письма. На бумаге все не так получается, как на самом деле. Ведь часто бывает так: о чем много думаешь, о том не можешь написать. Вот как, например, я напишу, что уже немного соскучился по маме и папе? Галка прочтет — и начнет издеваться: «Ага, уже нюни распустил!» Вот и приходится писать всякую чепуху. А чем писать всякую чепуху, так уж лучше совсем ничего не писать. Вот я ничего и не пишу… Но сегодня я должен был посоветоваться с папой. Я рассказал ему, какие у нас порядки, что нас заставляют спать днем, рано ложиться вечером, что от поезда ни на шаг не отпускали, и еще многое другое. Я спросил у папы, прав ли Сергей Сергеич, когда говорит: «Ваша задача — хорошо отдохнуть!»
Я знаю, как папа ответит. Он всегда говорит, чтобы из меня не делали барчука. Я уверен, что папа будет на моей стороне. В конце письма я просил поцеловать маму, передать привет Галке и сказать ей, что у меня есть воля и что она это очень скоро узнает.
19 июля
Через три дня, 22 июля, будет торжественное открытие лагеря. Открытие хотели назначить на воскресенье, но в городе на этот день объявлен воскресник, а к нам должны приехать гости из города. Вот и пришлось перенести наш праздник. Ну, и очень хорошо: лучше подготовимся!
Дел сегодня всем хватает. Сергей Сергеич даже объявил соревнование между отрядами и звеньями на лучшую подготовку к открытию лагеря.
— Мы должны всех перешибить! — предупредил Андрей.
Меня выбрали редактором отрядной стенгазеты. Я должен выпустить ее за два дня. Но я решил выполнить задание досрочно и выпустить газету сегодня вечером. Пусть это будет самая первая стенгазета в нашем лагере! Представляю, как удивится Андрей…
Андрей весь день тренируется на спортивной площадке под руководством физкультурника Петра Николаевича. Этот Петр Николаевич уже из Москвы приехал таким загоревшим, что черней его, наверное, и в Крыму никого нет. Как это он смог так здорово загореть в Москве? Андрей тренируется вместе с Зинкой. На открытии лагеря оба они будут выступать со спортивными номерами.
Сегодня я сам торопился поскорей уйти с пляжа: времени мало, а работы пропасть! Я ведь должен не только выпустить стенгазету — я еще участвую в постановке пьесы. Роль у меня не самая главная, но очень ответственная. Я не должен говорить ни одного слева, а просто выйти на сцену в форме советского солдата и передать донесение генералу. Сначала мне предложили другую роль, со словами на целые две страницы, но я должен был изображать пленного гитлеровского офицера. На это я, конечно, не согласился. Уж лучше молчать в форме советского бойца, чем разговаривать в форме фашиста.
С утра мы сидим над большим листом белой бумаги: делаем стенгазету. Мы — это я, Левка-Мастер и Капитан.
Сергей Сергеич подошел к нам и посоветовал:
— А вы опишите свой поход в Сталинград, путешественники! Всем ребятам будет интересно почитать о Сталинграде.
«Ага! Значит, он уже совсем не сердится на нас, — подумал я. — Небось даже жалеет, что не удрал вместе с нами». Хотя ему удирать незачем. Он ведь может просто пойти всюду, куда захочет. Да, хорошо быть взрослым! Интересно, когда я тоже смогу ходить куда захочу? Года через три, наверное. Хотя нашей Галке уже шестнадцать лет, а она по всякому пустяку спрашивает у мамы разрешения. Уж я-то не стану спрашивать! Впрочем, все это не имеет никакого отношения к стенгазете.
Нам нужно было написать о Сталинграде. Я поручил это дело Капитану.
— Только ты с чувством напиши, — предупредил я. — Всё опиши: и как мы волновались и как свои фамилии на доске написали…
— Будь спокоен! — ответил Капитан.
Эх, жалко, что я прямо там, в Сталинграде, ничего не записал! А разве сейчас передашь, какое у нас было тогда настроение!
Потом пришла Катя. Она посоветовала поместить в стенгазете какое-нибудь стихотворение. Откуда же его взять? Но вдруг я вспомнил, что Профессор в поезде целыми днями читал стихи. «Наверное, он и сам сочиняет», — решил я и тут же побежал искать Профессора. Я нашел его в беседке за домом. Расхаживая взад и вперед, он повторял:
Ненавижу
всяческую мертвечину!
Обожаю
всяческую жизнь!..
Я не очень-то разбираюсь в стихах, но сразу догадался, что это Маяковский. Сначала Профессор пробовал отказаться от моего предложения. Но я сказал, что стенгазету невозможно вывесить без стихов, что Андрей приказал ему написать стихи. И тогда он согласился.
Я дал ему час сроку. Но Профессор заявил, что этого мало и что Пушкин писал «Евгения Онегина» больше семи лет. Тогда я дал ему еще полчаса и ушел.
Скоро Профессор принес стихотворение.
Сперва я просто запрыгал от восторга: стихотворение было прямо как в настоящей книжке. Профессор написал о звездах, луне и всяких печальных мыслях. Последняя строчка была такая: «И звезды грустно смотрят на меня…»