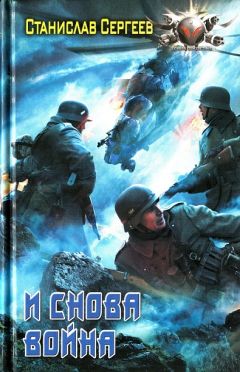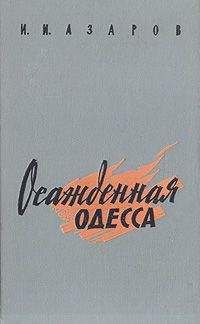Станислав Романовский - Рассказы
У Вари задрожали губы. Она прошептала:
— А мы ехали-ехали…
— Горючего сколько сожгли, — вздохнул дядя Тимофей.
Близко за стеной захлопали в ладоши и затихли, и женщина с красным галстуком, волнуясь, сказала:
— Раздевайся скорее, Варя, может, успеешь.
Девочка попыталась развязать шаль, но с мороза руки не слушались ее.
На помощь пришел дядя Тимофей. Он развязал и снял с нее шаль, пальто, платок, шарф и меховую безрукавку. Кофту Варя сняла сама и хотела было снять одно платье из двух, но покосилась на огромную груду своей одежды, и раздумала. А молодая женщина всплеснула руками от радости.
— Тоненькая какая! — воскликнула она и, схватив Варю за руку, повлекла ее за собой: — Скорее!
Они вдвоем вбежали на залитую светом сцену, когда ведущий собрался объявить смотр закрытым.
— Одну минуточку, — обратилась к залу Варина спутница, — Не расходитесь. Сейчас Варя Ведерникова из деревни Мурзихи прочитает вам стихотворение. Какое, она сама скажет.
— «Муха», — сказала Варя и задохнулась.
По залу прошел шум. Варя дождалась, когда успокоится дыхание, и повторила чистым голосом, отчетливо слышным в самом последнем ряду:
— «Муха». Басня Дмитриева.
В зале стало тише тихого, и девочка прочитала:
Бык с плугом на покой тащился по трудах,
А Муха у него сидела на рогах.
И Муху же они дорогой повстречали.
«Откуда ты, сестра?» — от этой был вопрос.
А та, поднявши нос,
В ответ ей говорит: «Откуда? Мы пахали!»
Зал дружно засмеялся, захлопал в ладоши и хлопал долго, до тех пор, пока Варя не догадалась, что люди хотят послушать ее еще раз. Второй раз она прочитала еще Звонче, чем первый. И в том месте, где хвастливая муха задирает нос, Варя вздернула лицо, а нос, будто дразня кого-то в классе, приплюснула пальцем. Как это у нее получилось, она сама не поняла, может, и не надо было этого делать. Только зал засмеялся и бил в ладоши еще громче первого раза. В третий раз она читать не решилась, поклонилась публике и под прощальные аплодисменты ушла со сцены.
Женщина в красном галстуке целовала ее и говорила приятные слова. Поздравляли Варю и другие незнакомые люди.
А Варе очень хотелось спать и найти дядю Тимофея. Варя нашла его там, где раздевались. Дядя Тимофей караулил гору ее одежды, и лицо его было мрачным.
— Варюшка, — пожаловался он, — а я пробегал, проискал зрительный зал и тебя не слышал. Понастроили дверей, ходи разбирайся.
— Дядя Тимофей, не расстраивайтесь. Я для вас сколько хотите прочитаю.
— Не в этом дело. Я матери твоей обещал все как есть высмотреть и выслушать и доложить, как народ тебя встречал. Что я ей скажу? Если бы сочинять я умел, а то ведь нет! Народ вон выходит. Пойдем оденемся в сторонке.
И дядя Тимофей, забрав Варину одежду, отошел в сторонку, а девочка за ним…
Отлунье
Ближе к ночи Таня понесла отцу ужин в степь — отец в ночную работал на комбайне, убирал хлеб.
Поднялся туман.
Белым облаком облачил туман все тропинки и дорожки, и девочка заплуталась.
Она крепко прижимала к себе хозяйственную сумку с ковригой теплого хлеба и бутылкой, в которой бултыхалось молоко, и забрела невесть куда.
Под ногами захлюпало болото, и Таня, мокрая насквозь, не знала, что и делать, только тихо плакала и, ступая наугад, несла над головой сумку, из которой текло молоко.
И все-таки она выбралась на сухое — на скошенное поле.
По полю колесом катился туман.
— Папа-аа! — громко крикнула девочка в темноту, и голос ее скоро погас в тумане, таком густом, что она шла, выставив вперед руку — на всякий случай, чтобы не наколоть глаза.
Вот рука ее уперлась в свежую солому — длинный соломенный стог, который зовется ометом. Девочка зарылась в него, положила сумку под голову и, дрожа и согреваясь, не заметила, как крепко заснула.
Она проснулась от холода и от какого-то близкого сокрытого движения и, не шелохнувшись, открыла глаза.
Туман ослаб, и близко от Тани на стерне кормились большие серые птицы и негромко переговаривались между собой.
Это были гуси, только не домашние, а дикие, и все они искали зерна в стерне, кроме сторожевого гусака, что недалеко от девочки держал голову на долгой шее и прислушивался, что творится ночью в степи, нет ли опасности.
У девочки затекли руки и ноги. Она лежала в самой середине дикой стаи, и ей было жутко и хорошо, оттого что она сама, как вольная птица, прислушивается к птичьему разговору, затерялась в степи и, будь у нее за спиной живые крылья, — полетела бы вместе со стаей в неведомые страны.
Руку у Тани свело судорогой, девочка пошевелила пальцами — сторожевой гусь повернул голову к омету, ничего подозрительного не увидел, подошел близко-близко и с негромким криком, предупреждающим об опасности, тяжело захлопал крыльями и поднялся в воздух.
Все поле наполнилось хлопаньем крыльев. Оно катилось волнами, и, когда стихло, девочка услышала в низине голос комбайна.
Таня встала и, озябнув, побежала на голос машины.
Она бежала долго, задохнулась, пошла шагом и увидела комбайн, который плыл по грудь в тумане.
— Папа-аа! — закричала она и заплакала. — Ааа…
И железная громадина, которая касалась вершиной своей звезд на небе, остановилась, постояла посреди поля, а сверху отцовский голос позвал:
— Дочка, полезай ко мне.
А она стояла и плакала, и не было у нее сил взобраться на такую высокую железную гору.
Отец спустился на землю, взял Таню на руки, и она задохнулась от запаха зерна, горячего железа и отцовского тепла — родного, как тепло матери.
Лицом, всей собой она зарылась в это тепло, и обильные слезы потекли из ее глаз. Она все хотела, да не могла выговорить «папа, папочка», и у нее получалось протяжное, как стон радости: «Ааа…»
По железным ступеням отец поднял ее наверх, усадил рядом с собой.
— Как ты меня нашла? — спросил он.
Девочка прошептала:
— Сама не знаю…
— Долго искала?
— До-оолго…
Отец разломил хлеб пополам, и вдвоем они быстро съели отцовский ужин.
— Ну вот, — сказал отец, — а я боялся: не съедим.
Он поколдовал руками перед собой, взялся за штурвал. Огромная машина задрожала и, раздвигая грудью пшеницу; повитую туманом, мощно взяла с места. На пшенице лежало лунное отражение — зыбкая дорожка, как на большой реке, только не такая яркая, а тихая и туманная.
«Где же луна-то? — подумала Таня. — Луна позади нас. Вон она какая — большая и красная».
Озаренные луной хлеба просматривались далеко и светились лунным прохладным светом.
Засыпая, Таня вспомнила отцовское слово, которым называется лунный отсвет в хлебах.
— Отлунье… Отлунье…
В теплой кабине комбайна спалось ей хорошо, и она видела сон как продолжение ее нынешней ночи. Ей приснилось, что она лежит в омете посредине дикой стаи и разговаривает с птицами:
«Гуси-гуси, — спрашивает Таня, — а вам хочется улетать в другие страны?»
«Не хочется, но надо».
«Зимой замерзают наши реки и озера…»
«Было бы тепло, мы бы остались».
«Гуси-гуси, — опять спрашивает Таня, — а разве в других странах очень плохо?»
«А мы и не говорим, что плохо».
«Но вы каждую весну возвращаетесь обратно в наши края».
«В других странах хорошо, но там мы в гостях».
«В гостях хорошо, а дома лучше».
«Отлунье… Отлунье…»
Она проснулась от того, что прямо в лицо светило солнышко.
Рядом с отцовским комбайном стояла грузовая машина, и в ее объемистый кузов из железного хобота комбайна, шурша, сыпалось зерно. От раннего солнышка зерно виделось розовым.
Рядом с отцом в кабине комбайна сидел шофер Алексей Иванович, пожилой мужчина из Таниного поселка, и, как только девочка открыла глаза, он обрадовался:
— Доброе утро, Татьяна Васильевна!
— Здравствуйте!..
— Как спалось на новом месте?
— Хорошо…
— А я как на пенсию уходил, так спать перестал. Так и не мог уйти на пенсию!..
Признание это девочка слышала от старика не в первый раз, а сейчас посреди степи в кабине комбайна оно показалось ей уютным, домашним, и девочка, ткнувшись головой в грудь отца, пробормотала сонным голосом:
— К маме хочу…
Он погладил ее по светлой голове, нагнулся и шепнул на ухо:
— Умница ты моя!..
Когда кузов с краями наполнился зерном, Алексей Иванович удивился:
— Быстро как!.. — И прибавил: — Поеду потихоньку.
Машину он завел не сразу, и поехала она не спеша, будто с ленцой. Но отец сказал уважительно:
— Алексей Иванович ни одного зернышка не уронит в дороге. Все в целости привезет. А ездит — не торопится.
И заснул на полуслове.