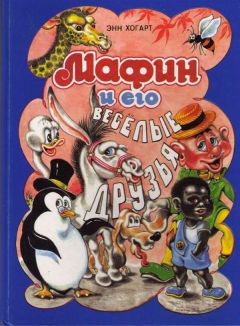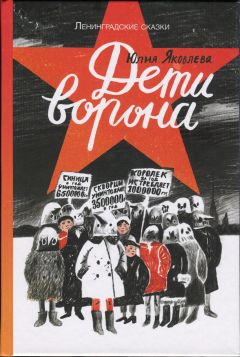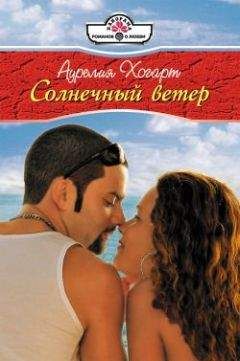Юлия Яковлева - Дети ворона
И прищурилась в своей манере.
Таня была старше Шурки всего на два года. Ей было девять лет. Но вела она себя порой так, будто ей девятнадцать. А то и все девяносто. Иногда была обычной сестрой, с которой можно было болтать и играть. А иногда словно спохватывалась — и становилась Старшей сестрой: мерзкой и какой-то ненастоящей.
— Нечего изображать из себя взрослую, — сказал Шурка, делая вид, что нисколько не напуган этой встречей, хотя в животе похолодело, как если бы он проглотил мороженое целиком.
Папа никогда не ругал, не кричал. Тем более не драл, как, например, Вальку драла его мать — худая, вечно усталая и взвинченная женщина в старой кофте: схватит — и ну хлестать кожаным ремнем или полотенцем по чему придется — по спине, ногам, попе. Шуркина мама хваталась пальцами за виски. А папа просто смотрел. И говорил: «Шурка, как же так?» Но это было ужасно.
— С Валькой. На Невском болтаемся. Поздравляю! — сестра нарочно потянула «р-р-р-р».
— Вовсе и не с Валькой. А по делу.
— Да?
— Да.
В руке у нее был маленький чемоданчик в форме груши, там лежала скрипка. Танька шла с урока музыки. Ее учитель музыки жил недалеко, на Садовой улице.
Шурка мысленно выругал себя. Как он мог про это забыть! И как только она его заметила здесь, в сквере!
— Я, Таня, не по Невскому болтался, а приветствовал героев-папанинцев. Тебе не понять.
— Куда уж мне!
— Завидуешь.
Шурка тщательно облизал деревянную палочку от эскимо. Танька следила за его движениями. Ей не нужно было рассказывать, что эскимо было совершенно новым сортом мороженого, сказочно дорогим, и никто из ребят на их улице его еще не пробовал.
Он кинул палочку в урну.
Глаза у Таньки превратились в две щелочки.
— Всё маме с папой расскажу.
— Рассказывай, сколько влезет.
— И как ты деньги на мороженое украл, расскажу.
— Я украл?! — Шурка покраснел так, что жарко стало.
— А кто тебе в нос двинул?
Шурка вспомнил, как только что бился, чтобы добыть листовку для вот этой самой Таньки, и едва не заплакал от обиды.
— То-то, нечего сказать. Потому что украл! — Танин голос зазвенел. — Валька этот тебя научил. Поздравляю!
— А вот и нет!
— А вот и да!
— Меня, Танечка, мороженым угостили, если хочешь знать.
— Папанин угостил? — язвительно осведомилась Танька.
— Дура! Один человек.
— Врешь.
— Не вру В шляпе.
— Какой еще человек в шляпе? У него имя есть?
— Не знаю. Незнакомый.
— Совершенно незнакомый человек просто так угостил тебя эскимо? Вот чудеса! Глядите, граждане!
— Угостил. Свою порцию даже мне отдал. Вот так!
Танины глаза вдруг распахнулись. Из щелок превратились в два огромных зеленых крыжовника.
— И ты обе съел?
— А вот и съел.
Шурка с вызовом посмотрел на нее. Ну что теперь скажет?
— Шурка!
Шурка сложил руки на груди, придав лицу надменное выражение. Танька стояла с разинутым ртом, как громом пораженная.
То-то.
— Шурка… Ты что…
— Обе съел, — горделиво подтвердил он.
Таня со стуком уронила футляр.
— Шурка!
Теперь она не шутила.
— Это же наверняка был иностранный шпион. Диверсант, — прошептала Таня.
— Чего ты мелешь? — воскликнул Шурка, но внутри у него всё споткнулось. Незнакомец и впрямь был странный.
Шурка поднял футляр, стряхнул с него мокрый снег. Поставил на скамейку. Пусть Танька видит, что он, Шурка, не вредный. Не то что некоторые.
— Что он тебе сказал?
Сестра села на скамейку рядом. На лице ее Шурка видел тревогу. Таня не притворялась.
От ее тона Шуркина уверенность угасла, как политый водой костер.
— Он сказал… это… Что Папанин нарочно забрался на льдину, чтобы уплыть подальше из СССР.
Таня ахнула.
— Ты понял?
Шурка обмер. Теперь он понял. Обычный советский человек такое говорить не мог.
Ну Танька! Теперь всё, конечно, встало на свои места. Об этом предупреждали в школе. Об этом каждый день писали в газетах. Об этом постоянно твердило радио. Об этом говорили дома родители. У отца на работе даже арестовали одного. Диверсант. Вредитель. Шпион. Враг народа. И он, Шурка, только что его упустил.
Он испуганно посмотрел на сестру.
— Может, побежать и милиционеру всё рассказать? Мороженщик — он тоже подтвердит! Он описание внешности сможет дать.
Таня всплеснула руками. Схватила Шурку за плечи.
— Шурка, — прошептала она. — Мороженое… Ты точно видел, как он его покупал?
— Да. Вроде.
— Может, он его подменил в последний момент!
— Не выдумывай. Зачем ему?
— Отравленное! Мороженое, — Таня схватила его за руки. — Как ты себя чувствуешь? Живот? Болит?
— Нет. Да. Болит, кажется, — выдавил Шурка, чувствуя, как в животе всё сжимается.
— Надо немедленно вызвать скорую! Идем.
Таня вскочила, подхватила скрипку.
— Нет! — уперся Шурка. Остался на скамейке.
— Ты что?
— Не надо скорую. И милиционера не надо.
— Ты что, Шурка?
— Ты сама подумай. Я ведь этого шпиона упустил. Я сам виноват. Меня самого арестовать нужно. А не лечить.
Танька на секунду задумалась.
— Ты прав, — медленно произнесла она. — Пока об этом знаем ты и я.
— И мороженщик, — уныло напомнил Шурка.
— Он не в счет, — решительно отмахнулась Таня. — Он подумал, что это был твой папа.
— Танька… Я умру?
— Бежим скорее. Домой. Я знаю, что делать!
Шурка с надеждой смотрел на сестру. Ему как-то не верилось, что он, Шурка, может умереть. Но было не по себе.
Таня схватила его за руку.
— Сам идти можешь?
Шурка кивнул.
Дорогой Таня объясняла:
— Помнишь, раз я съела что-то несвежее, и мама меня поила теплой марганцовкой, и надо было тошнить, пока всё не выйдет? Точно-точно!
Ноги у Шурки словно подтаяли в коленях.
Таня тащила его за собой. Они кое-как добрались до Фонтанки, переулком снова к Пяти Углам. На улицу с хорошим советским названием — улица Правды. Теперь оно жгло Шурку огнем.
Поднялись по лестнице. Таня вынула из-за пазухи ключ: она носила его на шнурке на шее. Отперла дверь. Мама и папа были на работе, Бобка — в детском садике.
На цыпочках они прошли по длинному коридору. В огромной квартире было двенадцать комнат и жили одиннадцать семей. По одной в комнате. Только Шуркина жила в двух. Кухня была общей: одиннадцать столов стояли вдоль стен. Общим был и коридор. Ванной и туалетом пользовались по очереди.
К счастью, в этот час все были на работе, в школе, в институте или ушли за покупками. В коридоре стоял полумрак. Комнаты слепо глядели запертыми дверями. Только за одной дверью негромко пел граммофон; там жила одинокая старуха, которой никуда не надо было идти, государство платило ей пенсию.
Их комнаты были в самом конце коридора. Таня открыла ключом дверь, и они вошли во взрослую комнату. Она так называлась, потому что ночью здесь спали мама и папа, а днем собиралась вся семья. В середине стоял большой круглый стол. За ним ели, читали, делали уроки. Кровать родителей стояла за камышовой ширмой. Прямо в стену был вделан большой дубовый шкаф.
Таня открыла дверцу шкафа и вошла. Шурка за ней.
Дело в том, что давным-давно папа решил соединить обе их комнаты. Чтобы не приходилось бегать туда-сюда через коридор. Он проделал ровную прямоугольную дыру между взрослой и детской. А так как подходящей двери не нашлось, то в дыру вдвинул старый шкаф. Из взрослой в детскую Таня с Шуркой проходили мимо платьев и костюмов.
С тех пор дверь из детской в общий коридор всегда стояла запертой. Ключ от нее давно потерялся. Все уже и забыли про эту вторую дверь.
Тане и Шурке ужасно нравилось, что у них такие странные комнаты. И шкаф. Только маленький Бобка, который еще ничего не знал о жизни, думал, что так и надо. Что так все живут.
Шурка проскользнул в детскую. Мамино платье задело его по лицу шелковым рукавом. Как погладило. От этого на сердце стало еще тяжелей.
Таня помогла Шурке раздеться, стянула с него ботинки, уложила на кровать. Скрипнула дверцей, снова исчезла во взрослой комнате. Шурка слышал, как хлопнула дверь в коридор.
Вскоре Таня вернулась из кухни с кувшином теплой воды. Встав на табуретку, нашла в верхнем, запретном для детей ящике пузырек. Вытянула резиновую пробку. Осторожно стряхнула в кувшин несколько бордовых кристалликов, отчего вода сделалась пронзительно-розовой.
Шурка всё слушал, что там внутри него.
— Пей! — приказала Танька.
Ее глаза вблизи казались огромными, вокруг черных зрачков Шурка видел коричневые крапинки. Веснушки, которым не хватило места на Танькином носу, подумал он.
Омерзительно тепловатая вода, несмотря на ярко-розовый цвет, была без вкуса и без запаха.
— Пей залпом!