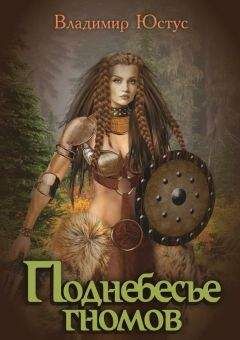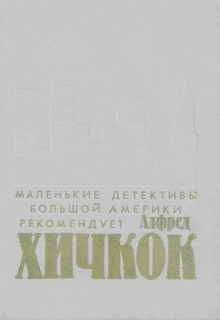Альберт Лиханов - Мальчик, которому не больно
Папу не уволили, он был хороший конструктор. Но работы стало мало. Потом совсем мало. Наконец, она совсем исчезла.
Мама предлагала папе перейти в знакомый банк. В зависимую фирму. На другой завод, который делал оборудование не для самолётов, а для производства колбасы «салями». Там, оказывается, для чего-то требовались конструкторы. Наконец, она предлагала ему идти на работу к ней.
Папа все предложения встречал усмешкой. Сам устроился на какой-то маленький таинственный заводик, который что-то незаметное делал, а Папа получал там совсем маленькую зарплату.
— Деньги значения не имеют, — утвердила его решение Мама. — Главное, чтобы ты успокоился. Даже хорошо. У тебя будет больше времени для сына.
Этот вердикт, почти приговор, был вынесен на кухне, где мы все собрались. И я ожидал, что своё слово произнесет и Бабушка. Но она только опустила голову. Как и Папа, у которого на руках сидел я.
— Хорошо ещё, — проговорил он, обращаясь к Маме, — что у нас есть ты.
Как живёт паучок?
Вы думаете, я забыл о нём? Но разве о друзьях забывают?
Я думаю про Папу, про Маму, про Бабушку и всякие наши домашние происшествия, но я же никуда не деваюсь. Лежу себе в своей постели, и после того, как о чем-нибудь подумаю или почитаю, беру большое увеличительное стекло, замечательную вещь, подзабытую человечеством, и смотрю сквозь него на паучка.
Он всё-таки не терял времени даром. Пока я раздумывал о том и о сём, обтянул тонкими ниточками комара и муху. Опять отсел на край паутины. Может быть, любуется своей хозяйской работой. Или ждёт, пока наступит ночь, чтобы пообедать.
— Ну как дела, Чок? — спрашивал я его негромко, чтобы не услышал кто- нибудь.
— Да ничего, — сам отвечал за него шёпотом. — Сижу вот здесь, терплю, Чик.
— Я восхищаюсь твоим терпением, Чок! — говорил я ему. И говорил за него в ответ:
— Так уж всё устроено, Чик. И у нас, и у вас. Надо терпеть. Тот, кто не может вытерпеть, погибает.
— Совершенно с тобой согласен, — говорил я. И спрашивал, сочувствуя: — Тебе, наверное, особенно трудно? Раскинуть сети и ждать, ждать. Неизвестно ведь, сколько?
— Неизвестно, конечно. Но у нас так принято. Ждать и ждать.
— И даже умирать, не дождавшись?
— Что поделаешь? — вздыхал я вместо него. — Даже и умирать.
Я едва дождался, пока Бабушка пришлёпает.
— Скажи, — спросил её. — А можно умереть, так ничего и не дождавшись?
Она встревожилась:
— Ты про что?
— Ну, например, пауки. Они же умирают, не дождавшись, пока попадет в паутину кто-нибудь?
Бабушка смутилась. Потом немножко обрадовалась:
— Пауки тоже не дураки. Они перелетают на паутинках с куста на куст. Уходят из одного угла в другой. Сражаются за свою жизнь. Всем надо сражаться!
Я её уже понял. Всем своим видом она хотела подчеркнуть, что и мне нужно сражаться. Ох, Бабуля! Из всего она готовит мне уроки. Хотя в школу я не хожу. И неизвестно, пойду ли.
Я вздохнул. Прикрыл глаза. И уж если на то пошло, спросил ее:
— Ну, а сколько мне ждать? И чего ждать-то? Сколько терпеть? До каких пор? До бесконечности?
Это Бабушкино же слово. Когда-то и где-то она его при мне произнесла, и я его сразу понял.
Бабушка присела ко мне на кровать. Помолчала. Потом сказала строгим голосом:
— Человек, знаешь ли, отличается от паучка. У тебя есть родители. Я. Существует медицина. Но у паучков стоит поучиться, я согласна. Они обладают замечательным терпением.
— А если не станет тебя? — спросил я. — Родителей? А медицина и так бессильна.
Бабушка молчала и гладила, гладила меня по ногам. Только я ничего ведь не чувствовал. Слышал, видел — это да. Но не чувствовал.
И ещё видел, что Бабушка тихо плачет.
— Но ты же говорила о терпении, — сказал я ей ласково.
Подарок
Потом мне привезли подарок. Да какой!
Мама выписала для меня из Америки электрическую коляску.
Папа нарядил меня в спортивный костюм «Адидас». Ноги обул в новые кроссовки, привязал к тележке автомобильным ремнём, который там был, и обучил, как пользоваться рычагом движения — он устроен на подлокотнике.
Всё очень просто. Нажмёшь рычаг вперёд — туда и поедешь. Нажмёшь назад — назад. А повернёшь вбок — повернёшь и коляску.
Я сначала дома кружился, потом — на улице. Бабушка со мной теперь не справлялась. Не поспевала за мной, и Папа её, конечно, от пробежек по двору освободил.
Сам он шагал рядом со мной широкими шагами. Да ещё и ускорял ход.
Не знаю, легче ли стало ему от того, что не надо меня нести на руках. Он никак не давал это понять.
И однажды я догадался сам: не носить меня на руках ему лучше.
Но зато он не прижимает теперь меня к себе. И я не дышу ему в щеку. И он не может остановиться, чтобы мы вместе наклонились к какому-нибудь летнему цветку.
Мир кукушкиных слёзок, зелёного мха, нежных цветочков незабудки немножко отодвинулся от нас в сторону. Я не мог ехать по нему резиновыми колесами моего электромобиля, потому что он предназначался только для асфальта.
Но как ликовала Мама! Она говорила, что теперь для всех началась новая жизнь. Что станет проще Бабушке. А Папа может поискать новую работу.
— Всё, что с нами случилось, — говорила она убеждённо, — тяжелое препятствие. Его надо преодолеть. Не жить им. Не мучаться! А одолевать. Даже обходить! И всё будет в порядке!
Бабушка и Папа кивали. А я сидел в кресле у стола. Не на папиных руках. И я тоже кивал, вспоминая Чока.
Мама говорила то же самое, что и он. Ну немножко по-другому! Чок, как и Бабушка, считал, что надо терпеть. А Мама — что надо одолевать. И даже обходить.
Что же касается меня, то — объезжать.
Папа тоже радовался. Ведь он любил всякие машины. Читал всякие инструкции к ним. Ковырялся в двигателе своей маленькой «Тойоты».
Он сидел за столом, улыбался Маме, кивал ей и, наверное, ждал, когда я перелягу в постель, чтобы самому спокойно разглядеть невиданные аккумуляторы моей коляски. Ночью, с помощью специального устройства, её надо было заправлять электричеством из розетки.
Восклицательная война
Потом начались какие-то взрослые разговоры.
Я их не слышал. Вернее, слышал их обрывки. Отдельные из них слова. Какие-то запоздалые фразы, которые взрослые не успели договорить во время спора и договаривали при мне, думая, что я не пойму, даже если услышу.
Наверное, они не думали, что больные люди могут оказаться чувствительнее их. Догадливее. Смышлёнее.
Болезнь лишает человека чего-то важного в одном месте. Зато добавляет в другом.
Слепые, я думаю, лучше слышат. А глухие лучше видят.
А могут ли, к примеру, дети с церебральным параличом лучше соображать? Уверен в этом.
Мне иногда казалось, например, что по отдельным словам я могу восстановить всю фразу. А по отдельным фразам — взрослый разговор. Если и не точно, то приблизительно. Примерно. А смысл разговора — так наверняка.
В общем, как говорила моя философская Бабушка, — если в одном месте что-то убыло, то в другом — прибыло.
Сначала я понял, что Мама что-то такое Папе предлагает. Ему приятное. Он смеётся. Но что-то говорит несогласное. Мама шутливо сердится.
Пока это никого не касается. Что-то они обсуждают их совершенно личное, взрослое. Не для нас с Бабушкой.
Потом Папа немножко проговаривается Бабушке, и она ходит с круглыми глазами.
Нет, конечно, приходит ко мне в комнату вполне обычная. Моет меня. Приводит в порядок. Разговаривает о всяких пустяках. Потом присаживается, чтобы погладить мои бесчувственные ноги, задумывается о чём-то и глаза её округляются.
Будто увидела что-то необыкновенное. Оттого и глаза круглые.
Потом стал сердиться Папа.
Я слышал издалека, как он кричал на кухне Маме:
— А как же Мальчик? — то есть я.
Она отвечала негромко. И тут не нужно быть очень прозорливым, чтобы понять — говорят обо мне.
В другой раз я услышал, как крикнула Мама:
— Я спасаю семью!
Это было на улице. Я катался в своем электромобиле.
— Сначала надо вылечить! — негромко бросил Папа, завершая очередной спор.
— Надо жить дальше! — воскликнула мама в другой раз.
Папа ей возражал:
— Ты думала: а если всё повторится?
Мама кричала:
— Опять во всём винишь меня? Да посмотри в зеркало!
Наступала тишина. На день. Или даже на неделю. И я теперь хорошо знал, что в нашем доме поселилась Ссора.
Ссорящиеся стороны воюют восклицаниями.
Они похожи на острые копья. Каждое доставляет боль. И, может быть, не только другой стороне, сколько себе. Вот такие копья. Обоюдоострые.
Война восклицательных знаков.
Она шла и шла, эта война, и я точно знал, что в этой войне я — причина.
Всё из-за меня.
Подземное озеро