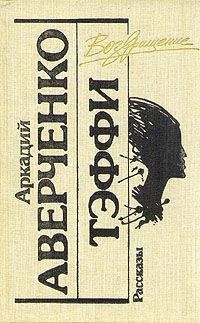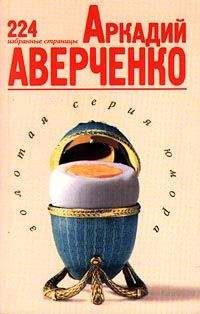Аркадий Аверченко - Юмористические рассказы
Теперь, в предчувствии тревожных событий, Гриша спрятал драгоценную штучку в передней, под плевальницу.
Вечером, перед сном, он вдруг забеспокоился о своем букете и побежал его проведать.
Так поздно, да еще один, он никогда в саду не бывал. Все было не то что страшное, а не такое, как нужно. Белый столб, что на средней клумбе (его тоже удобно было колупать курком), подошел совсем близко к дому и чуть-чуть колыхался. Поперек дороги прыгал на лапках маленький камушек. Под жасминовым кустом было тоже неладно; ночью там росла, вместо зеленой, серая трава, и когда Гриша протянул руку, чтоб пощупать свой букет, что-то в глубине куста зашелестело, а рядом, у самой дорожки, засветилась огоньком маленькая спичечка.
Гриша подумал: «Ишь, кто-то уж поселился…»
И на цыпочках пошел домой.
– Там кто-то поселился, – сказал он сестрам.
– Сам-то ты поселился! – поддразнила Катя.
В детской к каждой кроватке нянька Агашка привязала по маленькой березке.
Гриша долго рассматривал, все ли березки одинаковые.
«Нет, моя самая маленькая. Значит, я умру».
Засыпая, вспомнил про свой курок и испугался, что не положил его на ночь под подушку и что мучится теперь курок один под плевальницей.
Тихонечко поплакал и заснул.
Утром подняли рано, причесали всех гладко и раскрахмалили вовсю. У Гриши новая рубашка пузырилась и жила сама по себе: Гриша мог бы в ней свободно повернуться, и она бы и не сворохнулась.
Девочки гремели ситцевыми платьями, твердыми и колкими, как бумага. Оттого что Троица, и нужно, чтоб все было новое и красивое.
Заглянул Гриша под плевальницу. Курок лежал тихо, но был меньше и тоньше, чем всегда.
– За одну ночь чужим стал! – упрекнул его Гриша и оставил пока что на том же месте.
По дороге в церковь мать посмотрела на Гришин букет, шепнула что-то тетке, и обе засмеялись. Гриша всю обедню думал, о чем тут можно смеяться. Рассматривал свой букет и не понимал. Букет был прочный, до конца службы не развалился, и, когда стебли от Гришиной руки сделались совсем теплые и противные, он стал держать свой букет прямо за головку большого тюльпана. Прочный был букет.
Мать и тетка крестились, подкатывая глаза, и шептались о помещике Катомилове, что нужно ему оставить цыпленка и на ужин, а то засидится – и закусить нечем.
Еще шептались о том, что деревенские девки накрали цветов из господского сада и надо Трифона прогнать, зачем не смотрит.
Гриша посмотрел на девок, на их корявые, красные руки, держащие краденые левкои, и думал, как Бог будет их на том свете наказывать.
«Подлые, скажет, как вы смели воровать?»
Дома снова разговоры о помещике Катомилове и пышные приготовления к приему.
Накрыли парадную скатерть, посреди стола поставили вазочку с цветами и коробку сардинок. Тетка начистила земляники и украсила блюдо зелеными листьями.
Гриша спросил, можно ли вынуть вату из уха. Казалось неприличным, чтобы при помещике Катомилове вата торчала. Но тетка не позволила.
Наконец гость подъехал к крыльцу. Так тихо и просто, что Гриша даже удивился. Он ждал невесть какого грохоту.
Повели к столу. Гриша стал в угол и наблюдал за гостем, чтобы вместе с ним пережить радостное удивление от парадной скатерти, цветов и сардинок.
Но гость был ловкая штука. Он и виду не показал, как на него все это подействовало. Сел, выпил рюмку водки и съел одну сардинку, а больше даже не захотел, хотя мать и упрашивала.
«Небось меня никогда так не просит».
На цветы помещик даже и не взглянул.
Гриша вдруг понял: ясное дело, что помещик притворяется! В гостях все притворяются и играют, что им ничего не хочется.
Но, в общем, помещик Катомилов был хороший человек. Всех хвалил, смеялся и разговаривал весело даже с теткой. Тетка конфузилась и подгибала пальцы, чтобы не было видно, как ягодный сок въелся около ногтей.
Во время обеда под окном раздался гнусавый говорок нараспев.
– Нищий пришел! – сказала нянька Агашка, прислуживавшая за столом.
– Снеси ему кусок пирога! – велела мать.
Агашка понесла кусок на тарелке, а помещик Катомилов завернул пятак в бумажку (аккуратный был человек) и дал его Грише:
– Вот, молодой человек, отдайте нищему.
Гриша вышел на крыльцо. Там на ступеньках сидел старичок и выгребал пальцем капусту из пирога, корочку отламывал и прятал в мешок.
Старичок был весь сухенький и грязненький, особой деревенской, земляной грязью, сухенькой и непротивной.
Ел он языком и деснами, а губы только мешали, залезая туда же в рот.
Увидя Гришу, старичок стал креститься и шамкал что-то про Бога и благодетелей, и вдов, и сирот.
Грише показалось, что старик себя называет сиротой. Он немножко покраснел, засопел и сказал басом:
– Мы тоже сироты. У нас теткин маленький помер.
Нищий опять зашамкал, заморгал. Сесть бы с ним рядом да и заплакать.
«Добрые мы! – думал Гриша. – Как хорошо, что мы такие добрые! Всего ему дали! Пирога дали, пять копеек денег!»
Так хотелось ему заплакать с тихою сладкою мукой. И не знал, как быть. Вся душа расширилась и ждала.
Он повернулся, пошел в переднюю, оторвал клочок от покрывавшей стол старой газеты, вытащил свой курок, завернул его в бумажку и побежал к нищему.
– Вот, это тоже вам! – сказал он, весь дрожа и задыхаясь.
Потом пошел в сад и долго сидел один, бледный, с круглыми, остановившимися глазами.
Вечером прислуга и дети собрались на обычном месте у погреба, где качели.
Девочки громко кричали и играли в помещика Катомилова.
Варя была помещиком, Катя остальным человечеством…
Помещик ехал на качельной доске, упираясь в землю тонкими ногами в клетчатых чулках, и дико вопил, махая над головой липовой веткой.
На земле проведена была черта, и, как только помещик переходил ее клетчатыми ногами, человечество бросалось на него и с победным криком отталкивало доску назад.
Гриша сидел у погреба на скамеечке с кухаркой, Трифоном и нянькой Агашкой. На голове у него, по случаю сырости, был надет чепчик, делавший лицо уютным и печальным.
Разговор шел про помещика Катомилова.
– Очень ему нужно! – говорила кухарка. – Очень его нашими ягодами рассыропишь!
– Шардинки в городу покупала, – вставила Агашка.
– Очень ему нужно! Поел да и был таков! Бабе за тридцать, а туда же приваживать!
Агашка нагнулась к Грише.
– Ну, чего сидишь, старичок? Шел бы с сестрицами поиграл. Сидит, сидит как кукса!
– Очень ему нужно, – тянула кухарка моток своей мысли, длинный и весь одинаковый. – Он и не подумал…
– Няня Агаша! – вдруг весь забеспокоился Гриша. – Кто все отдает бедному, несчастному, тот святой? Тот святой?
– Святой, святой, – скороговоркой ответила Агашка.
– И не подумал, чтоб вечерок посидеть. Поел, попил, да и прощайте!
– Помещик Катомилов! – визжит Катя, толкая качель.
Гриша сидит весь тихий и бледный.
Одутлые щеки слегка свисают, перетянутые тесемкой чепчика. Круглые глаза напряженно и открыто смотрят прямо в небо.
Тонкая психология
Вере Томилиной
До отхода поезда оставалось еще восемь минут.
Пан Гуслинский уютно устроился в маленьком купе второго класса, осмотрел свой профиль в карманное зеркальце и выглянул в окно.
Пан Гуслинский был коммивояжер по профессии, но по призванию донжуан чистейшей воды. Развозя по всем городам Российской империи образцы оптических стекол, он, в сущности, заботился только об одном – как бы сокрушить на своем пути побольше сердец. Для этого святого дела он не щадил ни времени, ни труда, зачастую без всякой для себя выгоды или удовольствия.
В тех городах, где ему приходилось бывать только от поезда до поезда, часа два-три, он губил женщин, не слезая с извозчика. Чуть-чуть прищурит глаза, подкрутит правый ус, подожмет губы и взглянет.
И как взглянет! Это трудно объяснить, но… словом, когда он предлагал купцам образцы своих оптических стекол – он глядел совершенно иначе.
С женщинами, на которых был направлен этот взгляд, делалось что-то странное. Они сначала смотрели изумленно, почти испуганно, затем закрывали рот рукой и начинали хохотать, подталкивая локтем своих спутников.
А пан Гуслинский даже не оборачивался на свою жертву. Он уже намечал вскользь другую и губил тоже.
«Ну, эта уже не забудет! – думал он. – И эта имеет себе тоже! Вот я преспокойно проехал мимо, а они там преспокойно сходят с ума».
При более близком и более долгом знакомстве пан Гуслинский вместе с чарами своих внешних качеств, конечно, пускал в оборот и обаяние своей духовной личности. Результаты получались потрясающие: три раза женился он гражданским браком и был раз двенадцать бит в разных городах и различными предметами.
В Лодзи машинкой для снимания сапог, в Киеве палкой, в Житомире копченой колбасой, в Конотопе (от поезда до поезда) самоварной трубой, в Чернигове сапогом, в Минске палкой из-под копченого сига, в Вильне футляром для скрипки, в Варшаве бутылкой, в Калише суповой ложкой и, наконец, в Могилеве запросто кулаком.