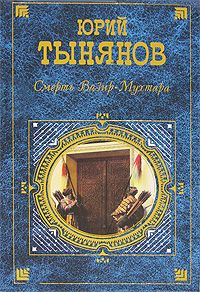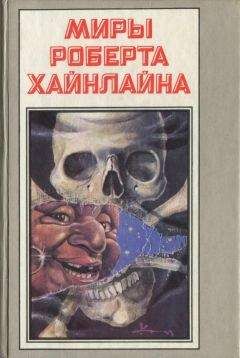Леонид Сотник - Экзамен
А ранним утром 22 января нас подняли по тревоге.
— Рысью, марш! — крикнул Степанишин, и мы помчались в сторону Ферганы. Рядом со мной, как и прежде, скакали Грицько Кравченко и Абдулла Абдукадыров.
Ах, какая это была изумительная скачка! Подо мной белый конь, на мне белая крылатая бурка, белая туркменская папаха со звездой — всё это раздобыл для меня изворотливый Абдулла.
— Ходи так, Миша, — сказал он мне. — Очень красиво ходи. Теперь ты не белый шайтан, а настоящий белый всадник.
Мы мчались, как буря… Нет, не буря. Нужно придумать другое сравнение. Папа сказал бы, что у меня начисто отсутствует фантазия.
Мы мчались, как песок пустыни, поднятый раскалённым «афганцем», и мелькали перед глазами дувалы, карагачи у дороги, поднятые к солнцу ветви шелковиц.
После трёх часов непрерывной скачки мы, наконец, заметили тех, кого преследовали. Маленький отряд, не больше десятка всадников, уходил в горы.
Они тоже заметили нас. Сверху им хорошо было видно, как мы скачем по разбухшему хлопковому полю, как спотыкаются наши усталые лошади. Степанишин остановил отряд.
— Кравченко, Абдукадыров…
— Рябинин! — закричал я.
Макарыч пристально посмотрел на меня и махнул рукой.
— Хорошо, и Рябинин.
Потом он приказал взять единственный в нашем отряде ручной пулемёт «льюис», пробраться незамеченными в тыл вражескому отряду и перерезать ему путь к отступлению.
— Возьмите свежих заводных лошадей, — втолковывал нам Степанишин, — и аллюр три креста. У кишлака Гармчашма оседлаете тропу. Там ждите белых. Вы должны успеть раньше: у них кони совсем морёные.
И мы успели.
Кравченко с Абдукадыровым залегли в расщелине, выставив на тропу ствол пулемёта, а мне приказали занять позицию впереди, у самого изгиба тропы, и вести разведку. Если появятся белые, я должен буду махнуть платком и потихоньку отползти в расщелину.
Ждать пришлось недолго. Вначале я услышал отдалённый стук копыт и шорох камней, срывавшихся в пропасть. Потом стал различать храп лошадей и приглушённые голоса.
Впереди отряда ехал Осипов. Я сразу узнал его — чёрная бурка, чёрные усики на бледном лице. Рядом с ним на низкорослой лошадке, точно Дон-Кихот на Росинанте, восседал Колесин — Бот. А за спинами прятался ещё кто-то в цветастой чалме и полосатом бухарском халате.
Отряд белых остановился. Это было в какой-то сотне метров от меня, и я слышал каждое слово.
— Привал, — сказал Осипов и тяжело сполз с седла. — Теперь они нас не догонят. Ещё один переход — и мы у Иргаша.
Всадники разминали затёкшие ноги. Лошади стояли на тропе, понурив головы и тяжело поводя боками. Я аккуратно пересчитал белогвардейцев — десять человек. Пересчитал винтовки, вьюки, ручные пулемёты. Потом махнул платком и стал отползать к расщелине, в которой укрылись наши.
Обливаясь потом, Кравченко возился с пулемётом.
— Поганое дело, — сказал он мне. — «Льюис» неисправный. Если они ударят из своих трёх пулемётов, посекут нас на капусту.
— Бешбармак будут делать, — поддакнул побледневший Абдулла.
— Так как же быть? — спросил я и почувствовал, как у меня мелко-мелко задрожали колени… Страх холодной рукой сжимал сердце.
— Пока не знаю, но с тремя карабинами мы здесь не продержимся и десяти минут. Надо что-то придумать… Надо задержать их до подхода отряда.
— Хорошо, — сказал я одеревеневшим голосом — язык еле помещался во рту, — я придумаю.
— Да я не тебе говорю, — с досадой сказал Кравченко и пнул ногой ненужный пулемёт. — Что ты можешь придумать?… Они там надолго расселись?
И вдруг я крикнул:
— Стой! Грицько, у меня есть идея. Я сейчас пойду к ним…
— Ты шо, здурив…
— Грицько, нужно выиграть время. Я скажу им, что они окружены, что вверх по тропе им не пройти. Пусть сдаются.
— Так они тебе и поверят! Мишко, не лезь ты в это дело, а то, случись беда, Степанишин мне за тебя голову снесёт.
Но я уже вышел на тропу и медленно зашагал в сторону нависшей над поворотом скалы, за которой укрылись белые.
— Куда? Мишка, назад, — громким шёпотом звал меня Кравченко.
— Сынок, вернись, — вторил ему Абдукадыров.
А я шагал и шагал, позабыв о противной дрожи в коленках.
Заметив меня, белые вскочили. Послышался лязг затворов. Десять стволов целились мне в грудь. Я остановился.
— Здравствуйте, — сказал я и закашлялся.
Белые с изумлением смотрели на меня. Стволы винтовок медленно опускались.
— Это что за явление? — первым нашёлся Осипов. — Откуда ты, белый ангел?
— А, старый знакомый, — скалил гнилые зубы Колесин. — Интеллигентный юноша, так сказать. — И к Осипову: — Этот щенок когда-то большую дырку провертел в руке вашего покорного слуги. Тогда, у Джангильдина, он ещё плохо стрелял. Думаю, что теперь кое-чему подучился.
Меня бросили на землю, связали руки за спиной.
— Кто такой? Почему здесь? — сыпал вопросами Осипов. — Кто послал?
— Кто же ещё, как не разведчики, — пояснял Колесин. — Он уселся на камень и придвинул к моему лицу пахнущие ваксой сапоги. — Этот юноша ещё у Джангильдина числился во взводе разведки. Ну, дружок, расскажи, зачем пожаловал. Смелее, смелее, не стесняйся. Здесь все свои.
Но тут надо мной склонился бородатый чалмоносец, и я увидел знакомые глаза-маслины, тусклые и немигающие, словно срисованные с египетской фрески.
— Да, — вздохнул он, — очень способный мальчик. — Потом спросил, прикрыв глаза ресницами: — Как ваши успехи в персидском, о мой достойный ученик? Надеюсь, вы выучили последний урок?
— Да, учитель, — ответил я и сплюнул вязкую слюну. — Я всегда старательно относился к вашим заданиям. Могу прочесть стихи Хайяма, которые вы мне рекомендовали выучить:
Доволен ворон костью на обед,
Ты ж — прихлебатель низких столько лет…
Воистину свой хлеб ячменный лучше,
Чем на пиру презренного — шербет.
— Очень хорошо, — сказал Абдурахман Салимович и побледнел. — Мы не станем тебя расстреливать. Жаль обрывать с помощью презренной пули такой могучий фонтан мудрости. В лагере курбаши Иргаша мы устроим козлодрание, и ты заменишь джигитам козлёнка.
Белые смеялись. Моя спина покрылась холодным потом. Мне приходилось видеть трупы людей после басмаческого «козлодрания» — страшная картина.
— А ведь было время, — вёл дальше Абдурахман, — когда я возлагал на тебя большие надежды. Учил персидскому и думал, из тебя получится хороший резидент в Астрахани. Но ты допустил ошибку. Тебе вовсе не следовало переводить моё письмо Джангильдину, потому граната, влетевшая в окно родительского дома, предназначалась не только командиру, но и тебе.
— Ну что ж, муаллим, мы квиты, — сказал я с тупым равнодушием. — Пуля, которую я выпустил в Бухаре, предназначалась тебе. Но аллах продлил наши дни.
— Щенок! — Абдурахман опустился на корточки и сжал мне пальцами горло. Я стал задыхаться.
— Отпусти его, — недовольно проворчал Осипов. — Он ещё не успел ничего рассказать. Ну, говори: кто тебя послал?
— Командир эскадрона Степанишин.
— Зачем?
— Предложить вам сдаться.
— И конечно же, он гарантирует нам жизнь и ношение холодного оружия.
— Нет, об этом он ничего не говорил. Он сказал, что вам всё равно крышка, а потому лучше поберечь патроны.
— А где твой Степанишин?
— Метров триста отсюда, впереди вас.
— У него эскадрон?
— Да.
— Пулемёты есть?
— Шесть. И горная пушка на вьюке.
— Странно, — пожал плечами Осипов. — А кто же нас преследовал в долине, кто шёл за нами по пятам?
— Это другой отряд. Степанишин со своими бойцами заранее оседлал тропу, а преследовал вас эскадрон Кравченко.
— Так этот хохол ещё не свернул себе шею? — оскалился Колесин. — Жаль, не удалось мне его ухлопать. Значит, ты утверждаешь» что вперёд нам не прорваться?
— Попробуйте, если шесть пулемётов для вас пустяк…
— Врёт этот сын шакала, — вмешался Абдурахман. — Нужно пощекотать ему рёбра. — Он вытащил шашку из ножен и приставил острие к моему горлу. — Говори правду.
— Я говорю правду.
Осипов молчал, о чём-то сосредоточенно думая.
— Вряд ли он врёт, — сказал Колесин. — Пожаловал-то он к нам не с тыла, а с фронта. Значит, тропа перекрыта. Нужно поворачивать назад.
Я с облегчением вздохнул. Пусть поворачивают. Теперь они от Макарыча не уйдут.
Меня подняли, не развязывая рук, забросили на круп лошади позади седла. В седло уселся Колесин.
— Смотри, щенок, — сказал он мне, — если наврал, тебе первая пуля.
Я не ответил. Я смотрел на грязную каменистую тропу, а перед глазами у меня вставала площадь, затопленная народом, и четырнадцать красных гробов у разрытой могилы. В одном из них, скрестив на груди руки, лежал председатель Ташкентской ЧК Фоменко. Наш Лобастый. Я видел заплаканные глаза чекистов и руки, сжатые в кулаки.