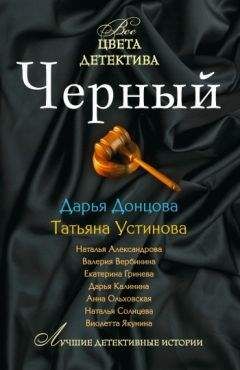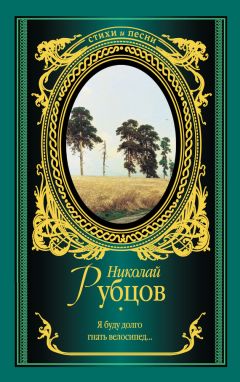Т.Поликарпова - Две березы на холме
«А-а, голубчик, вот ты где!» - сказала я про себя, успокоившись сразу, - значит Зульфия в безопасности. Меня Лешка не смог бы настичь. Дом был рядом. При всем желании, при всей своей ястребиной стремительности мальчишка не успел бы раньше меня очутиться у наших ворот. Подождав немного - Лешка не шевелился, прямо статуя! - я медленно пошла к дому. Хотя побежать мне очень даже хотелось, просто от холода.
Видно, Никонов поначалу не видел меня. Потому что стоило мне двинуться и отойти от дома Косиных, как он встрепенулся: вырвал руки из карманов и весь подался вперед, но не спрыгнул с калитки. Может, еще не узнал.
Дойдя до своей калитки, я остановилась: хотелось посмотреть, что будет. И так мы стояли, каждый при своих воротах. Смотрели друг на друга, не видя ни лица, ни глаз. Лешка - один черный плоский силуэт. А меня у темных ворот он, наверное, вообще не видел. Просто знал: раз калитка наша не открылась, не закрылась - значит, я здесь.
А небо хмурилось, слоистые седые тучи волоклись над проулком, дышали холодом, снегом. Земля же была темной, вовсе лишенной подробностей, красок.
Избы Никоновых и Карповых плоско чернели на взгорке, и о том, что крыши их сейчас мягкие и пухлые от снега, говорила только легкая волнистость той линии, которая четко отграничивала их от седого, тоже пухлого неба. Изящная путаница ветвей голых березовых макушек, тонким пером черной тушью наведенная над крышами, смягчала картину и странно сливалась с ней, хоть была непривычно чуждой здесь, над калиткой, на фоне неба, фигурка мальчишки - черный силуэт, будто вырезанный из картона.
Сказать, что я что-то думала, пока мы так стояли, будет неверно. Чувствовала? Тоже нет. Я ждала: вот сейчас что-то случится. Что-то должно было произойти. Это вверху тучи шли, а здесь, у земли, все цепенело, стыло в ожидании, все уже потемнело от неподвижности ожидания.
Но ничего не случилось… Я услышала шаги тети Ени во дворе и ступила за калитку, неизбежно грохнув щеколдой.
Лешка получил знак, что меня у ворот больше нет. Как все-таки резко в холодном воздухе, в молчании сумерек, как грубо брякает железо о железо!
Нас разоблачили
Только войдя в избу, я поняла, что застыла до самых печенок в одном накинутом на плечи пальто. Что бы мне вдеть руки в рукава да застегнуться - так нет! Я полезла на печь, теплую еще, пахнущую нагретым кирпичом, пылью. Тети Енина постель была скатана, лежала в углу. Я ничком растянулась прямо на широких гладких кирпичах, прикрыв спину пальто. Меня била дрожь.
Нет, я нисколько не раскаиваюсь, что дала пощечину Лешке. Поделом ему. И все-таки… все-таки его жалко. Но выхода теперь не могло быть.
Просить прощения - ни за что. От одной мысли меня подбросило на кирпичах - так я возмутилась. Да пустись я в объяснения, он бы ни за что не понял. Куда уж ему! Мальчишка… Значит, предстояла длинная, затяжная вражда.
Конечно, он не успокоится, пока меня не излупит или еще как-нибудь не отомстит. Стало быть, надо все время держаться настороже, прятаться, убегать… Тьфу! Что это за жизнь такая! Я волчком закрутилась на жестких кирпичах - так стало нестерпимо неловко не то что жить, а и просто лежать…
Сейчас вот для чего он влез на ворота? Конечно, чтоб в наш двор заглянуть!
Я села на печке, обхватив колени руками, пытаясь унять дрожь, и тут раздались наконец долгожданные шаги, топоток Зульфии.
- Лезь скорей ко мне! Я на печке! - почему-то шепотом сказала я ей.
Она и рада была: тоже замерзла. Да и секретней на печке. То, что рассказала Зульфия, враз отодвинуло все мои лешкинские переживания. Оказывается…
- Прихожу я к Степке, - рассказывала Зульфия, - а у него Мария Степановна! Ты понимаешь?! Она сразу из школы к нему! Я прихожу, а они сидят разговаривают. На лбу у Степки такая корочка, воспаление сошло, глаз открылся, кругом красноты даже нет. А на руках волдыри спали. - И Зульфия большими пальцами обеих рук потерла подушечки остальных пальцев. - Это уж потом я разглядела. А как только шагнула в избу, так и стала столбом у порога, не могу вздохнуть. А Мария Степановна зовет меня: «Что ж ты стала? Проходи, присядь с нами». А я говорю: мол, ноги грязные. А она: ну, мол, разуйся.
Ну, я разулась. А сама соображаю: чего говорить? Чего уже Степка сказал? А он молчит как деревяшка! Тогда я: как, мол, Степа, себя чувствуешь?
А он: «Спасибо, заживает, как на собаке!» И хохочет. Весело ему!
Мария Степановна так внимательно на меня смотрит и говорит: «Какие вы молодцы, что заботитесь о товарище. Это приятно видеть». А мне нет чтобы догадаться: не знает она правды, наплел ей Садов! Нет, я ей так и выкладываю: «Он нас пришел выручить, а мы что же?» - «Да-а? А он вас где выручал?» - она удивленно так.
И вот тут Степка мне заморгал! Понимаешь, Даша, вижу - моргает, уже соображаю - надо мне молчать. А меня несет, как во сне, не могу остановиться и объясняю: «Да на дежурстве, где опалился».
Вот тебе и все… - торжественно заключила Зульфия. - И тогда Мария Степановна как посмотрит на Садова! Как только посмотрит! И тихо так спрашивает: «Значит, ты мне неправду рассказал?»
Степка-то наш, бедный, теперь и вруном оказался! Забормотал: «Чё это неправду? Чё неправду?! На дежурство на ихое я пришел маленько помочь. Печку раздувал, вот волосы-то чуть опалил. А уж потом утром здесь вот на квартире - как вам говорил, так и было! Хозяйке помогал чугун тяжелый из печки вытащить, мне под ногу попал кругляк, кусок жерди, нога поскользнулась, покачнулся чугун, меня перетянуло. И я ткнулся вперед носом, лбом о печное чело, а руками на угли».
Вот что он сочинил! Да мне откуда было знать!
Но Мария Степановна, конечно, все сразу поняла по моим словам. Говорит: «Складно сочиняешь, Садов. Быть тебе непременно великим писателем, если ложь твое сочинительство не разъест. Ведь я было поверила твоему рассказу. Только вот думала: чтоб о печное чело такой ожог получить… Не похоже… Но, считай, обвел ты меня, свою учительницу, вокруг пальца. Молодцом, Садов!»
Мы со Степой сидим, и смотрю я - у него из глаз закапало: кап, кап на клеенку, на стол. Как я увидела, так тоже в горле комок встал. А плакать я не умею, сама знаешь, и потому, наверное, этот комок меня душит.
Но только я выдавила из себя: «Мы боялись…» - и комок прошел. Задышала я нормально.
Ну и тогда рассказала все, как было. А она стала ходить взадвперед по избе, руки за спину, нахмурилась. А нам уж все равно! Мне то есть. Я только за Степу боюсь. И сказала ей, Марии Степановне: «Это во всем мы виноваты, вовсе не Садов. Он помогать пришел, а мы его бросили у печки. Мы были дежурные, часовые, мы нарушили приказ. Нам нельзя было никого к себе пускать. Вот».
А она знаешь что на это?! «Вы, - говорит, - очень виноваты». И погладила меня по голове! Вот здесь. - Зульфия наклонила голову и показала мне свое темечко - блестящие темно-каштановые полукружия, разделенные тонкой ниткой пробора.
Я слушала ее проглотив язык, и по ходу рассказа сердце мое то падало куда-то вниз, то взмывало в надежде, что пронесет - вывернется Зульфия…
И наконец, растаяло теплом, пошло этим теплом по всем жилочкам.
И тоже, как у Степки, выжало слезы. То ли от стыда, то ли от благодарности к учительнице, то ли от жалости к Степе и Зульфии, которым пришлось пережить такое.
- А что она еще-то сказала? Что теперь будет?
- Мария Степановна сказала: «Живите спокойно. Хорошо, что у Садова все подживает быстро. Учитесь нормально. Разобраться в этом - дело взрослых. Вы поняли свою вину, а это самое главное».
- Все-таки… - тоскливо протянула я. - Ойё-ёй, Зульфия, как стыдно перед учительницей, хоть беги отсюда!
А Зульфия вдруг и говорит:
- Дашка, что было, то прошло. Степка живой и с глазами. Поговорят и забудут. А мы все-таки виноваты.
Вот какая мудрая и справедливая Зульфия, половинка моей души! Когда она сказала «и с глазами», я содрогнулась, впервые подумав, что правда мог Садов и глаз припечь о раскаленную дверцу…
- Правда, Зульфия! И пусть все кончится скорей! А то бы всё врали, врали…
Вспомнила я, как покраснела сегодня и что из этого вышло. Сгинь, сгинь, провались всякая беда!
- Ой, Зульфия! А что я тебе покажу!
Я потащила ее к груде тети Ениного приданого, и при свете лампы малиновый сарафан оказался еще волшебнее.
Весь вечер мы мерили перед зеркалом и друг перед другом тонкие шерстяные шали и полушалки - нежно-кремовые, кубовые, темно-темно-бордовые, черные, и все с огнистыми цветами, розовыми розами и бутонами, небесными незабудками, с яркой зеленью. Тетя Еня глядела на нас, улыбалась, подзадоривала:
- А ну так повернись! А ну эдак! - И пообещала нам дать полушалки, если надо будет, для выступления на сцене.
После уроков оказалось…
Как говорит моя бабушка, в большой беде тонет малая. Так и я, отправляясь назавтра в школу, думала лишь о том, как мне теперь на Марию Степановну смотреть. Я и не заметила, что всю дорогу за нами шел Лешка, один, без Карпэя. Об этом сказала мне Зульфия.