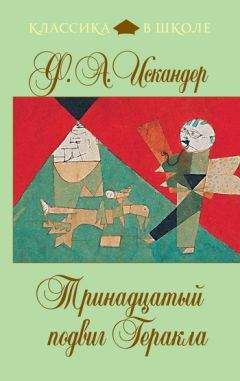Михаил Герчик - Ветер рвет паутину
Конверт лежал на краешке стола, там, где его положила тетя Таня, — грязно-синий прямоугольник на белой скатерти. А я то подходил к нему, опираясь на костыли, то отходил, как будто он был намагниченным. При взгляде на него меня начинало знобить. И совсем не от любопытства. От какой-то неясной тревоги.
Мама и тетя Таня ушли в кино, после «Судьбы человека» мама не пропускала ни одного кинофильма. Ленька тоже куда-то ушел. Мы были одни. Я учил географию, дядя Егор, покусывая усы, ремонтировал наш будильник. Какая-то пружинка в нем упорно не хотела встать на свое место, и он загонял ее пинцетом так долго, что у меня бы, наверно, уже давно от такой работы лопнуло терпение. Я читал и искоса наблюдал за дядей Егором, удивляясь, почему он этот будильник не выбросит в форточку. А когда часы наконец затикали, дядя Егор поставил их на стол, расправил усы и сказал:
— А мама твоя, Сашка, молодец! Никогда я, откровенно говоря, от нее такого мужества не ожидал. — И уходит к себе.
Я решительно надрываю конверт. Я знаю, читать чужие письма нехорошо, нельзя, но не хочу, чтоб мама огорчилась, если письмо плохое. А если письмо хорошее, ну что ж, я извинюсь перед ней и больше никогда не буду этого делать.
Достаю листок в клеточку, смотрю на подпись. Может, мне и читать его не придется, это письмо? Может, это какой-нибудь знакомый? Тогда я тут же положу листок в конверт. Но подписи под письмом нет. Нет и адреса.
Сажусь. Читаю.
«Одумайся, сестра, на грешный путь вступила ты. Сама отступила от Бога и людей отвращаешь. Сеешь сомнение в душах на радость дьяволу. Раскайся. Ты ничто перед Богом, Бог свят, а ты греховна; представь радость небесам, покайся и обратись. И получишь ты вечную жизнь, вечное спасение, вечное блаженство. Помни, говорит Господь:
Когда я приду к вам на землю,
Дела всех людей разберу.
[текст утрачен]
[текст утрачен]
[текст утрачен] одумаешься, [текст утрачен] сами [текст утрачен] тебя. Не жить тебе на земле».
Листок выпал у меня из рук и, медленно кружась, лег на пол. Большие печатные буквы слились в мутные ручейки. «Сеешь сомнение в душах» — вдруг выплыла строка.
— Дядя Егор! — кричу я. — Зайдите ко мне.
Дядя Егор входит, и я подаю ему письмо. Он берет письмо и после первой строчки брезгливо оттопыривает пальцы. Читает, а под кожей у него перекатываются тугие желваки.
— Угрожать вздумали? — дядя Егор тяжело садится рядом со мной. — Знаешь, на кого они похожи? На осенних мух. Чуют свою погибель, вот и хочется побольней укусить. Не выйдет, — сжав мое плечо, говорит он.
— Это тетки Серафимы работа, — говорю я. — Была она тут, то же самое говорила. Мама ее за дверь выставила.
— По всему чувствуется, ее, — соглашается дядя Егор.
— Маме письмо покажем? — спрашиваю я.
Дядя Егор колеблется, дергает себя за ус. Решительно машет рукой.
— Покажем. Пусть она и это знает.
Вечером дядя Егор подает маме письмо, а я напряженно смотрю на нее. Вздрогнет? Побледнеет? Испугается? Смотрю — и не верю своим глазам: мама смеется. Смеется хрипловато, но так заразительно, что мы с дядей Егором тоже улыбаемся. Потом мама мнет листок, бросает и говорит:
— Пойду-ка я руки вымою. Словно в болото окунула.
И идет в ванную. Дядя Егор двумя пальцами подбирает письмо, расправляет его, весело подмигивает мне и уходит. А я вслух читаю маме книгу. Свою любимую. «Повесть о настоящем человеке».
Эх, машина, ты, машина…
В тот день, когда управляющий дал нам записку, двигатель мы не забрали: не было машины, да и погрузить на нее такую махину мы бы не смогли. Назавтра Ленька привел заводских парней, и мы вместе с ними отправились в трест. Завхоз поворчал, что двигатель вполне пригодился бы тресту, но потом расщедрился и дал к нему в придачу «дворники». Алешка от радости чуть его не расцеловал.
В школу мы ехали героями. А возле ворот нас ждал Женька Багров, второклассник, с которым я когда-то лежал в больнице. Он кинулся прямо под колеса, шофер еле успел затормозить, и на весь двор заорал:
— Ребята, вашу машину на металлолом забирают!
Одним прыжком Алеша спрыгнул с кузова, а следом за ним посыпался весь отряд. В кабине остался я один: в спешке ребята забыли обо мне, а сам я не мог из нее выбраться. Я даже чуть не заплакал от злости, что оставил дома костыли и теперь не могу быть рядом со всеми.
Только минут через двадцать взбудораженные, растрепанные ребята вернулись к машине. Все, кроме Алешки. Он остался там. Ленька велел всем успокоиться, но ребята орали так, что ничего нельзя было разобрать.
— Да расскажите вы толком, что случилось! — взмолился я.
Перебивая друг друга, Венька и Тома рассказали, что Глафира Филипповна решила сдать нашу машину на металлолом. Генка сказал ей, что нас обгоняет по сбору металлолома соседняя школа, а во дворе — гора железа. Если сдать машину, наша дружина сразу на первое место в районе выйдет. А что мы взялись отремонтировать машину, Глафира Филипповна не знала, мы это дело держали в секрете. Вот она позвала электросварщиков и попросила разрезать раму на куски, чтоб их было удобно грузить. Хорошо, что мы успели вовремя, конец был бы нашим мечтам о своей трехтонке, валялись бы сейчас от нее только железки на дворе.
— Хорошие ребята попались, сварщики эти, — облегченно вздохнув, сказал Венька. — Мы как облепили машину да как рассказали, что ремонтируем ее, так они только посмеялись и ушли.
— А Глафира Филипповна?
— Сказала, что обсудят Генку на совете дружины, — ответил Венька и подергал за галстук. — Он ведь знал, что не для лома мы раму драили. Все знал. И обманул Глафиру Филипповну. Знаешь, как она на Генку смотрела? Аж мне кисло стало.
…И вот мы устанавливаем двигатель. Вернее, устанавливают дядя Егор, Ленька, Алешкин отец Казимир Францевич, заводские комсомольцы, а мы только толпимся вокруг и изо всех сил мешаем им, иначе нашу помощь назвать никак нельзя. И после этого все наши дни заполняются от начала до конца машиной.
Сборка идет пока очень туго, хотя я уже не знаю людей, которые нам не помогали бы. Вместе с комсомольцами мотовелозавода мы поработали на воскреснике, убирали территорию. А потом в заводском клубе дали концерт самодеятельности. Концерт получился что надо. Я сыграл на баяне «Полонез Огинского» и «Реченьку», Венька читал стихи, Алешка показывал всякие фокусы, а Тома с девочками пела и танцевала. Хлопали нам здорово. А главное, подарили целую кучу запасных частей: аккумулятор, поршневые кольца, электрооборудование. Алешкин отец принес совсем новые крылья, навесил на кабину дверь.
— Это вам от нашего гаража, — вытирая паклей руки, сказал он. — А теперь, если хотите, создавайте кружок автодела. Будем изучать машину.
Алешка стоял и радостно улыбался. Это он сагитировал отца заниматься с нами. И сейчас три раза в неделю по вечерам Казимир Францевич приходит в школу. Собираются все наши мальчишки, даже Томка приходит.
— А что, я хуже вас, что ли? — смеется она и лезет поближе к Казимиру Францевичу.
Занятия проходят прямо возле нашей «машины». Тут мы особенно ясно видим, сколько еще не хватает ей, чтобы с полным правом называться этим словом. Казимир Францевич объясняет нам принципы работы двигателя, знакомит с электрооборудованием, системой охлаждения, тормозной системой, и его указка то скользит по частям, то повисает в воздухе. Тогда он принимается прямо на снегу рисовать чертежи. Чертежи он рисует часто, очень часто.
Когда Казимир Францевич уезжает в дальние рейсы, занятия ведет Алешка. Он действительно знает машину, как таблицу умножения, а рассказывает с таким ученым видом, как будто он по крайней мере автомобильный профессор, а не семиклассник. Конечно, даже когда мы все изучим машину, как Алешка, водительских прав, нам все равно не выдадут. В деревню нас повезет Леня и к баранке, наверно, даже не разрешит прикоснуться. А может, разрешит? Но заниматься все равно интересно. Даже из 7-го «Б» к нам ребята приходить начали. Пусть ходят, не жалко.
Однажды мы задержались в школьной мастерской, размечали доски для кузова. Толстые, звонкие доски мы тоже добыли на заводе. Пообещали, что весной отработаем, на всей территории посадим цветы. Вышли вчетвером: я, Алеша, Венька и Генка. Как случилось, что он пошел с нами, ума не приложу — Генка избегает нас и даже работать уходит в дальний угол мастерской.
Вечерело. Ветер гонял по тротуару колючие снежинки. Всем нам было по пути. Ребята шли быстро, я на своей коляске держался рядом с ними. Все четверо молчали: при Генке ни о чем говорить не хотелось.
Генка свернул на углу. Даже не попрощавшись. Мы уже к этому привыкли. Мы помнили все: как он ни за что обидел меня, как потребовал переизбрать Веньку, как обманул Глафиру Филипповну и чуть не превратил нашу машину в груду металлолома. Мы все помнили, и даже то, что он перестал быть председателем совета дружины и получил за машину выговор, не могло нас с ним помирить. Помнил это и Генка. Он почти не разговаривал с нами. Так, процедит что-нибудь сквозь зубы, и все. В мастерскую он ходил только потому, что доски для кузова мы подготавливали на уроках столярного дела и за это ставили отметки. Двойка даже по труду была для круглого отличника Генки страшней всего на свете.