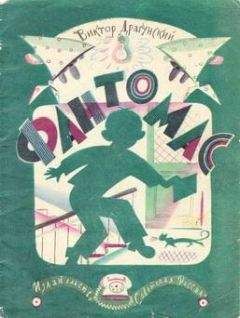Юрий Коваль - Поздним вечером ранней весной
И он погрозился палкой.
Сошел я с мостика на берег.
«Ладно, – думал я. – Не все мне прыгать да летать. Надо и приземляться иногда».
В тот день я долго гулял по берегу Истры и вспоминал зачем-то своих друзей. Вспомнил и Леву, и Наташу, вспомнил маму и брата Борю, а еще вспомнил Орехьевну.
Приехал домой, на столе – письмо. Орехьевна мне пишет:
«Я бы к тебе прилетела на крылышках. Да нет крыльев у меня».
ГЕРАСИМ ГРАЧЕВНИК
– Герасим Грачевник грачей пригнал! – закричали на улице соседские ребята, и я выскочил на крыльцо – поглядеть, в чем дело.
По дороге ходили грачи – прилетели наконец.
А никакого Герасима видно не было. У нас и в деревне-то нет ни одного Герасима.
Это день сегодняшний так назывался – Герасим Грачевник. Не какой-нибудь понедельник или четверг, а – Герасим. Весь день – и раннее утро, и будущий вечер, и небо, и лужи на дорогах, и подтаявший снег, – весь день был Герасим. А взошедшее солнце было его головой.
Грачи походили по дороге и полетели к березам, где остались у них прошлогодние гнезда.
Не знаю: почему это грачи так любят березы? Наверное, тянет их, черных, светлая кора. И ведь не только грачей тянет к березам. А иволги-то? А чижи? Да и меня-то самого тоже тянет к березам.
Заведу-ка я себе ручного грача и назову его – Герасим.
СОЛОВЬИ
В тумане ольховый лес.
Глухо в лесу, тихо.
А я бегу – боюсь опоздать на утренний клев.
«Тии-вить, – слышится слева, – тии-вить».
«Почин! – думаю я на бегу. – Ну сейчас начнется!»
«Пуль,
пуль,
пуль,
пуль,
пуль!»
Пулькает! Здорово пулькает!
«Клы,
клы,
клы,
клы,
клы!»
Клыкает! Во как клыкает!
«Плен,
плен,
плен,
плен,
плен!»
Пленкает! Неплохо пленкает! Умеет!
Некогда мне, некогда, я бегу – боюсь опоздать на утренний клев.
Когда я пробегаю мимо певца, который спрятался в средине ольхи, он замолкает на миг, но тут же начинает разгоняться: «Тии-вить».
И летят мне вдогонку соловьиные колена и кольца:
пульканье,
клыканье,
пленьканье,
дробь,
раскат,
колокольца,
летний громок
и юлиная стукотня.
А я бегу, бегу – не опоздать бы на утренний клев.
А впереди уж встречает новый соловей.
Быстро приближаюсь к нему и слышу затихающего певца сзади и нового, свежего, сочного, – впереди.
Да что же это – голова кругом!
Впереди – пульканье.
Сзади – клыканье!
Впереди – дробь.
Сзади – раскат!
А где-то там, совсем-совсем впереди, – третий соловей, до которого я еще не добежал.
«Чулки! Чулки! – поет он. – Где вы? Где вы?»
Пока доберусь до озера, соловьи передают меня из рук в руки.
А черемуха-то цветет, осыпается на черную дорогу, ворочаются в озере язи, бьют в прибрежной траве зеленовато-рябые щуки.
Вытаскиваю из кустов лодку и – быстро к шестам, вколоченным в дно озера. А новый певец, приозерный уже
пулькает-булькает,
клыкает-клокает,
пленькает-плинькает
да вдруг как рассыплет по поверхности озера сразу с полтысячи бус! Так холодом и ошпарит.
А я-то леща тащу.
Боком-боком-боком, разинув розовый рот, выпучив придонный глаз, идет лещище к лодке.
А за спиною – снова разом по воде с полтысячи бус!
Ну и соловей!
Я зову его Хрустальный Горошек.
ПОЗДНИМ ВЕЧЕРОМ РАННЕЙ ВЕСНОЙ
Поздним вечером ранней весной я шел по дороге.
«Поздним вечером ранней весной», – складно сказано, да больно уж красиво…
А дело, правда, было поздним вечером ранней весной.
Весна была ранняя, соловьи еще не прилетели, а вечер – поздний.
Так что ж было-то поздним вечером ранней весной?
А ничего особенного не было. Я шел по дороге.
А вокруг меня – и на дороге, и на поле, в каждом овраге – светился месяц.
Иногда я наступал на него – и месяц расплывался вокруг моей ноги. Я вынимал ногу из лужи – на сапоге блестели следы месяца.
Капли месяца, как очень жидкое и какое-то северное масло, стекали с моего сапога.
Так и шел я по дороге, по которой ходил и ясным днем, и тусклым утром, и – так уж получилось – поздним вечером ранней весной.
МЕДВЕДИЦА КАЯ
По влажной песчаной тропе ползет Медведица кая.
Утром, еще до дождя, здесь проходили лоси – сохатый о пяти отростках да лосиха с лосенком.
Потом пересек тропу одинокий и черный вепрь. И сейчас еще слышно, как он ворочается в овраге, в сухих тростниках.
Не слушает вепря Медведица и не думает о лосях, которые прошли утром. Она ползет медленно и упорно и только ежится, если падает на нее с неба запоздалая капля дождя.
Медведица кая и не смотрит в небо. Потом, когда она станет бабочкой, еще насмотрится, налетается. А сейчас ей надо ползти.
Тихо в лесу.
С веток падают тяжелые капли.
Сладкий запах таволги вместе с туманом стелется над болотом.
По влажной песчаной тропе ползет мохнатая гусеница Медведица кая.
ПОЛЕТ
– А ты видел когда-нибудь воздух? – спросил меня умный мальчик Юра.
Я подумал и сказал:
– Видел.
Юра засмеялся.
– Нет, – сказал он. – Ты не видел воздух. Ты видел небо. А воздуха нам видеть не дано.
А ведь, пожалуй, и вправду: мы видим воздух, только когда смотрим на бабочек, на парящих птиц, на пух одуванчика, летящий над дорогой. Бабочки показывают нам воздух.
Пух одуванчика – чистое воздухоплавание, все остальное – полет.
Самолет в небе никак не дает ощущения воздуха. Когда глядишь на него, только и думаешь, как бы не упал.
– А парашют? – спросил меня Юра.
– Мне дает.
– И мне тоже. А бумажный самолет?
– Конечно, дает. А еще лучше – голубь.
– Давай сделаем бабочку из бумаги. Капустницу или крапивницу?
– Давай махаона!
И мы сделали махаона. С огромными крыльями!
Ведь само слово «махаон» – с огромными крыльями.
И оно дает ощущение воздуха.
Мы отпустили махаона с крыши и, затаив дыхание, долго смотрели, как летит он и показывает нам воздух, которого нам видеть не дано.
ОЗЕРО КИЕВО
Белым-белы, говорят, были воды озера Киево.
Даже и в безветренные дни шевелились и двигались они и вдруг белою волной взмывали в небо.
Чайки, чайки – тысячи чаек жили на озере Киево. Отсюда разлетались по ближайшим рекам. Летели на Москву-реку, на Клязьму, на Яузу, на Сходню. Все чайки, которых мы видели в Москве, выводились на озере Киево.
Вначале озеро Киево было далеко от Москвы. Но потом оно делалось все ближе, ближе. Озеро-то не двигалось, но рос огромный город, и он хотел быть все огромнее, огромнее. И чем больше становился город, тем меньше становилось озеро. Меньше талой воды приходило сюда весной, пересохли ручьи и подземные ключи.
Ссохлось озеро Киево. Морщины островов и заливов раскололи водное зеркало. Почти все чайки ушли на вольные места, а многие стали жить на земле, на пашне.
«Киево» – это, конечно, необыкновенное слово. Слово еще осталось.
Остались на озере и редкие чайки.
С последними чайками остались и мы.
ТРИ СОЙКИ
Когда в лесу кричит сойка – мне кажется, что огромная еловая шишка трется о сосновую кору.
Но зачем шишке об кору тереться? Разве по глупости?
А сойка кричит для красоты. Она думает, что это она поет. Вот ведь какое птичье заблуждение!
А на вид сойка хороша: головка палевая с хохолком, на крыльях – зеркала голубые, а уж голос, как у граблей – скрип да хрип.
Вот раз на рябине собрались три сойки и давай орать. Орали, орали, драли горло – надоели. Выскочил я из дому – сразу разлетелись.
Подошел к рябине – ничего под рябиной не видно, и на ветках все в порядке, непонятно, чего они кричали. Правда, рябина еще не совсем созрела, не красная, не багряная, а ведь пора – сентябрь.
Ушел я в дом, а сойки опять на рябину слетелись, орут, грабли дерут. Вслушался я и подумал, что они со смыслом трещат.
Одна кричит:
«Дозреет! Дозреет!»
Другая:
«Догреет! Догреет!»
А третья кричит:
«Тринтрябрь!»
Первую я сразу понял. Это она про рябину кричала – мол, рябина еще дозреет, вторая – что солнце рябину догреет, а третью не мог понять.
Потом сообразил, что сойкин «тринтрябрь» – это наш сентябрь. Для ее-то голоса сентябрь слишком нежное слово.
Между прочим, сойку я эту заприметил. Слушал ее и в октябре, и в ноябре, и все она кричала: «Тринтрябрь».
Вот ведь глупая: вся-то наша осень для нее – тринтрябрь.
БОЛЬШОЙ НОЧНОЙ ПАВЛИНИЙ ГЛАЗ
Бывают в августе душные вечера.
Ждешь восхода луны, но и луна не приносит прохлады – тусклая восходит и вроде теплая.