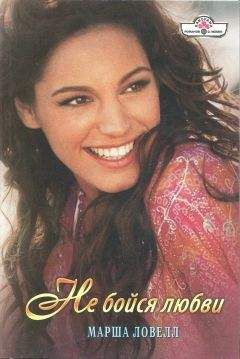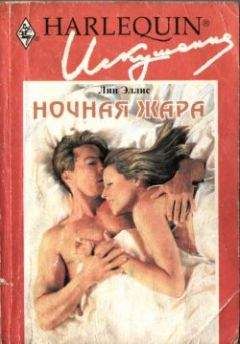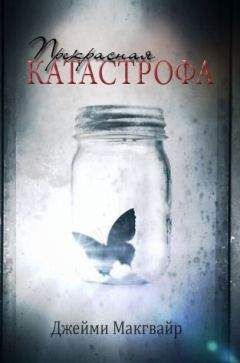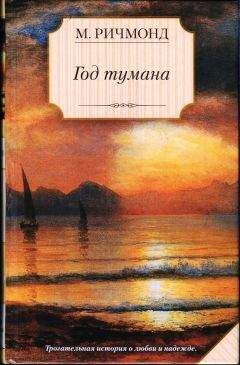Зиновий Давыдов - Из Гощи гость
Пан Феликс вздрогнул, повернулся к Аннице, натопорщил усы, сверкнул глазами грозно и продолжал путь свой верхом на волошском скакуне, впереди польских латников, грянувших вместе с тромбонами и свирелями:
Гей, поляк мой любый!..
И Анница, светясь и торжествуя, пошла с Васильком на плечах полем, вдоль дороги, шагая размеренно и плавно, большими шагами, не отставая от пана Феликса, не замечая грозных взглядов, которые время от времени бросал на нее кусавший усы свои с досады шляхтич. Ему было неловко перед своими кичливыми земляками за Анницу в заношенном шушуне, за босоногого мальчика, сидевшего у нее на плечах, — мальчика, в котором трудно было не признать пана Феликса сына. Но Анница, ни о чем не думая, шла по-прежнему почти рядом с паном Феликсом, и так дошла она до Серпуховских ворот, где закружилась по улице в страшной давке и невыносимой духоте знойного дня. Так добралась она и до моста на бочках, на который ступил горделивый пана Феликса конь. Но на мост не пустил ее стрелец, стоявший там на въезде с бердышом на высоком древке. Непокорливая Анница все же толкнулась к настланным поверх бочек доскам, и стрелец что было силы хватил ее в живот подкованным медью древком. Анница присела наземь от боли, но удержала на плечах своих заплакавшего Василька. Она отползла с ним в сторону, сняла его с плеч и, сидя на берегу, сама глотая слезы, стала наблюдать, как поднимаются на тот берег с моста предводимые паном Феликсом витязи, как распевают они во весь голос в лад медным трубам удалую свою песню:
Гей, поляк мой любый!..
И вдруг все поплыло, поплыло у Анницы перед глазами… Мелькнул где-то на страшной высоте золотой царь в жемчужном ожерелье, Димитрий Иванович, и стал тускнеть и покрываться как бы пеплом. Анница задыхалась; она поползла от берега прочь, ткнулась в ракиту… «Василёк!..» — вспомнила Анница, протянув вперед руки, точно слепая. Но кровавая пена показалась у нее на губах, и она сникла наземь, уже не помня ничего.
Она очнулась не скоро. Открыла глаза… Присела под ракитой… По левую руку от Анницы в пыльном вихре заходило мутное солнце. Плакал Василёк, вцепившись матери в шушун. Берегом возвращались в зарецкие слободы люди. И до слуха Анницы донеслось:
— Гощинского дела царь; не бывало таких на Москве.
— Го! Из Гощи гость!
— Эх, сватья-братья…
— Чшш… Не гунь!
Часть третья
«Непобедимый цесарь»
I. Загадочный поп
Дремлет решеточный сторож, сидя на обрубке у рогаток, протянутых поперек улицы на ночь. Клюет сторож носом, головой мотает, древко алебарды в руке зажал, а другой рукой как начнет креститься, встрепенувшись то ли от стука, то ли от крика, то ли от другого чего в темной ночи.
Далеко-далеко мигнул огонек. Мигнул и погас. Потом опять зажглось в отдалении и, уже не погасая, стало надвигаться на рогатки, на алебарду, на сторожа решеточного…
— Кто там?! — гаркнул сторож, вцепившись в древко обеими руками. — Чего шатаетесь ночью! Аль указы не для вас писаны? Вот я вас на Земский двор, волочебников!..
Подошедшие переглянулись; человек с фонарем кашлянул в рукав зипуна.
— От церкви Пречистой Гребневской, — молвил он, подняв фонарь и осветив попутчика своего в поповской рясе, с серебряным крестом на груди. — Причастить болящего в доме его.
Он опять кашлянул, опустил фонарь и буркнул в темноту:
— Кончается человек…
— Господе Сусе, — молвил сторож, навалился на рогатку, сдвинул ее с места и пропустил попа и провожатого с фонарем.
Те двинулись дальше, и пошло снова мигать и вспыхивать вдоль по улице меж рядами деревьев, кланявшихся друг другу по-осеннему раздумчиво, с шелестом и шепотом.
Сторож обернулся — уже и вовсе нет огонька. Пропал за поворотом вместе с попом и провожатым, которые пошли переулками и, ткнувшись в тупик, постучались в ворота. Тявкнул задорно щенок, подбежал к воротам, сунул в подворотню, на световое пятно от фонаря, ушастую голову, пролез и стал тереться о попову рясу. А по ту сторону ворот, по увядшей траве, шел детина в исподнем, зевал на ходу и чесался, отпер калитку и, не молвя слова, пропустил попа и человека с фонарем. Поп пошел в хоромы; детина с мужиком-провожатым побрели к надворной избе.
Не причащать, не исповедовать пришел, видно, сюда поп, если один, без провожатого, прошел он темные сени и сразу, не тычась зря, нащупал в стене дверную щеколду. Нагнулся поп и, едва не задев скуфьею низкую притолоку, продвинулся в просторный покой, где не слышно было ни стонов больного, ни вздохов его, только лампада чуть потрескивала перед странным образом, непривычным, невиданным доселе, с нерусским венцом вокруг женского земного, чрезмерно красивого лика. У русского попа висел в горнице католический образ польской работы! И перед этим образом поправил поп в лампаде фитиль, зажег об него свечку и пошел к столу. И, закрепив свечку в шандале[59], стал ходить по горнице, то и дело останавливаясь и понемногу разоблачаясь, снимая с себя одно за другим — скуфью, крест серебряный, широкую рясу, однобортный подрясник с воротом стоячим. И остался поп в одних штаниках, в черных бархатных сапогах и белой сорочке, обшитой кружевцем. Тщедушный поп, с впалой грудью и редкой бородой, — как такому молебны петь, в церкви служить!
Поп зябко потер руки и пошел к печке. Он постоял у печки, повертелся, потерся о нагретые изразцы… Послушал колотушку, в которую бил сторож на соседнем, панском, дворе, где стояли литовские купчины… Прислушался поп и к щенку, скулившему под окном. Там, за окном, окутала Москву глухая предосенняя ночь, полная смутной тревоги и беспричинной тоски. Поп потоптался у печки и вспомнил:
Cum subit illius tristissima noctis imago…[60]
Поп повторил это мысленно раз и другой:
Cum subit illius tristissima noctis imago…
И дальше — ни с места. Потер попик рукою своей плешивый, подобный куполу лоб, но вспомнить больше так и не мог. Тогда он пошел к столу, раскрыл обтянутую зеленою кожею книгу, стал копаться в ней и наткнулся на заложенный меж страницами бумажный лист. Выудил из книги цепкими своими пальцами поп исписанную мелко бумагу, поглядел ее на свет и прислушался снова… Но тихо было кругом, даже щенок не скулил больше под окошком, укрывшись, должно быть, в каком-то дворовом кутке.
— Tristissima noctis… — молвил поп вслух, уже не слыша и собственного голоса, держа в руке бумагу, пробегая глазами строку за строкой. И, потянувшись за чернильницей, увидел попик в медной подставке свое собственное отражение. Вздохнул тогда поп сокрушенно, закрыл глаза и, открыв их, погрозил тому, кто тускло глядел на него из глуби металла: — Ах, патер Андржей!..
И, уже не смущаемый посторонними видениями, скрючился над разложенной на столе бумагою и стал дописывать начатое накануне. Писал долго, глядя временами на свечу и не видя ее, иногда прислушиваясь к чему-то, хотя кругом была невозмутимая тишина. И тогда только захлопнул патер Андржей чернильницу и побрел к кровати, когда кончил письмо и упрятал его снова в книгу, обтянутую зеленою кожею. И вот о чем извещал в своем письме тщедушный иезуит дородного начальника своего, который в Польше, в городе Кракове, спал в этот час безмятежным сном в просторной опочивальне, на лебяжьей перине, под пуховым одеялом.
II. О московских делах и о русских крепостях, о тайных происках иезуитов и сладких надеждах поляков, о Хворостинине, о Заблоцком и о прочем
«Донесение, писанное смиренным отцом Андржеем, Общества Иисуса коадъютором, достопочтенному отцу Децию, святого богословия доктору, краковскому Общества Иисуса провинциалу[61]. Из Москвы, сентября в одиннадцатый день, в год тысяча шестьсот пятый.
Первое. Ради вящей славы господней и непреложным Вашего преподобия повелением присоединился я к войску великого князя Димитрия московского как исповедник и наставник и с помощью бога-вседержителя, даровавшего нам победу, вступил в город Москву и в именуемый Кремлем замок, краше которого невозможно себе представить. Из лютой ненависти к царю Борису, и это теперь известно, первые патриции государства (бояре) сначала тайно передались на сторону Димитрия, а затем и явно открыли ему дорогу. Но так же, и еще больше, обязан великий князь святому нашему ордену и пресветлой короне польской. Не отрицаясь этого, великий князь Димитрий ласкает меня по-прежнему, но много еще тяжких трудов предстоит нам, воителям во имя господне, для укрощения и вразумления упрямого московского народа: я разумею обращение народа сего от проклятой греческой ереси к единственно правильной католической вере ради спасения души и обретения вечного блаженства. Велик этот подвиг, но истинно писано у Квинтилиана в книге десятой, третья глава: «Всякое прекрасное дело сопряжено с трудностями; сама природа не желает быстро производить на свет ничего большого». И хотя так, но никогда доселе не приходилось жить мне среди людей, питающих столь явный ужас перед всяким католиком и высказывающих нам столь неприкрытое отвращение. И потому для уловления сих заблудших вынужден я, смиренный рыбарь господень, искуснейше сплетать свою сеть и действовать с превеликою осторожностью. Чтобы отвратить от себя предубеждение и даже обезопасить самое жизнь свою, принужден был я сменить свой плащ на рясу и, отрастив себе бороду, принять образ русского попа.