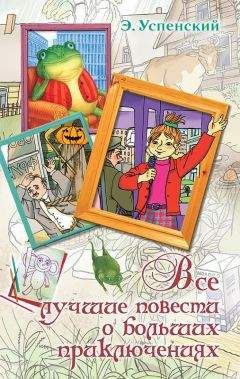Ирина Богатырева - Луноликой матери девы
В ее голосе была и насмешка, и вызов. Но Очи только усмехнулась:
— Приходи. Тайга быстро тебе покажет, где ээ-борзы зиму проводят.
— Ты все себя охотницей держишь, — не унималась Ильдаза. — Только ушел лучший охотник, ушел и выкинул тебя из головы, как старую шапку. Или ты думала, все мальчиком будет он на тебя смотреть?
Очи вспыхнула и глянула на Ильдазу быстро, словно та кинула в нее камень. На меня обернулась — не я ли подговорила такой разговор завести? — но я выдержала прямой взгляд: тайну ее крепко держала, хоть тяжелей собственной была она мне.
— Что говоришь? — сказала Очи сухо. — Нет разве других причин мужчине уйти в тайгу, как я одна?
— Не тот ветер, чтобы охоту затевать. Все с гор, а Зонар в горы. Видать, в голове у него ветер сменился.
— Наверно, сменился, — кивнула Очи с натугой, на Ильдазу не глядя. — Тебе-то что?
— Мне ничего. Это царевне надо заботу иметь, чтобы все мы возвратились к Камке.
Очи вскинула голову — на нее, на меня — хотела ответить, аж ноздри раздулись, но смолчала, села на лошадь и ускакала с холма.
— И что все молчат, будто я виновата? — с вызовом заявила Ильдаза. — Ты что молчишь? — обернулась ко мне. — Ты сама должна бы давно ей сказать, а тебе будто ничего не надо.
Я опешила от такого напора.
— Что ты хочешь от меня?
— Ничего мне не надо. Это тебе надо. Чтобы все мы к Луноликой пришли. Ведь так?
— А вам разве не хочется того же?
— Что хочется нам! За нас все духи решили. Ты вытянула нас, как щепки из кучи. Спроси сейчас у любой, кто хочет обратно в лес? Даже Очи не хочет. Одна разве ты, тебе только и надо.
— Вот о чем вы договорились, — удивилась я, но сердце мое неожиданно окрепло. — Хорошо. Скажите тогда, хотите ли возвращаться? И если нет, если держит вас кто-то здесь, я отпущу. Пока посвящение не прошли, вы свободны. Так что?
Но девы молчали. Растерянно, преданно смотрела на меня Согдай. Ак-Дирьи испугалась и пыталась не глядеть на меня вовсе. А Ильдаза скривила красивый капризный рот и сказала:
— Уходить, может, не хочется, но нет того, что бы держало. Не успели за зиму такого счастья найти. Разве только одна Очи. У нее спроси про Зонара. А мы свободны.
— Что вам Очи? — не выдержала я.
— Ты не ходила на сборы, Ал-Аштара, — вставила слово Ак-Дирьи. — Не видела, какие взгляды друг на друга они бросали. Если бы видела, так не говорила бы.
— Там только дурак не понял бы, — добавила Ильдаза мрачно. — А они, верно, думали: никто ничего не видал.
Я усмехнулась про себя: права была Ильдаза. И вот, уже сидя перед огнем в канун нового года, я это вспоминала и спрашивала саму себя: хочу ли уйти? И не решалась ответить, и рада была, что никто не спросил тогда у меня. Ничто будто бы не держало, но сердце томилось непонятно и горько. И разговор с Очи, когда глухим голосом спросила она: «Почему так дорого с нас берет Луноликая?» — все еще жил во мне. Она испугала меня тогда. Она уже будто знала, что мы теряем. Но я не знала и гнала от себя эти мысли. «В Бело-Синее дорога перед каждым своя расстелена», — так говорил отец. И я его слова повторяла, как горькую траву от головной боли жевала.
Ночью в долину спустился западный ветер. Не холодный, но резкий, он дул и гнал облака, они сменялись на небе вмиг, рождая зыбкое, тревожное чувство. Непостоянство несет западный ветер. Отец с главами родов на заре возжигали огонь на холме, жгли душистый можжевельник и вопрошали у духов; те сказали, что грядут неизбежные перемены для всех: и люда, и родов, и нашей, царской семьи. Так сказали духи отцу и двенадцати главам за много лет до самих перемен; так передал отец люду, спустившись с холма в долину и разжигая общий костер. Но и без этого, покинув утром шатер, я могла сказать то же самое: грядут перемены, и после них вся жизнь пойдет по-другому. Тревога стучала во мне. Но разве я могла что-то сделать? Разве кто-то способен изменить то, что уже решил Бело-Синий и вестником чего стал в то утро западный ветер?
В ярких одеждах, на конях в лучшей, золотом на солнце играющей сбруе, спускались люди в долину, и она закипала, как гигантский котел. Полы шуб и юбок летали на ветру, конские волосы на верхушках шапок у воинов развевались. Высокие прически замужних женщин кренились и качались, птички из кожи, войлочные шарики и фигурки из золоченой кости слетали с них, как перья; женщины пригибались, а дети лезли им на плечи удерживать прически или бросались врассыпную, подбирая безделушки, покинувшие головы матерей. Ветер играл с людьми в то утро. Ветер играл с хвостами коней, заплетенными в тугую косу, а гривы у всех были стрижены и убраны в золотые нагривники. Золоченые кабаньи клыки колыхались на груди у дорогих лошадей, как молодая трава в степи. У моей Учкту красной нитью был заплетен хвост, красные кисти свисали с нового седла, и ветер задувал их под брюхо, когда спускались мы с холма. Узда блестела золотом — как на войну спускались мы с Учкту от отцова шатра, сверху наблюдая собравшееся внизу море людей. Мы были каплей, готовой влиться в это море, — я и моя Очи, ехавшая со мною бок о бок.
Три другие мои девы ждали внизу. Все в украшенной к празднику одежде, на красивых конях — сердце радовалось смотреть на них. Ильдаза и Ак-Дирьи накрасили лица — белой глиной осветлили кожу, черным до переносицы подвели брови, глаза обвели по веку темно-синим, так что они казались огромными. Странно мне было видеть их лица такими.
— Праздник сегодня, — сказала на это Ильдаза, ничуть не смущаясь. — Последний наш среди людей день. Надо, чтобы все нас запомнили.
— Ты думаешь, нас не запомнят? — сказала я. — Луноликой матери дев помнят всегда.
— Кто же их помнит? Мертвый в кочевье — лишний груз, — сморщилась Ильдаза.
В ее лице, наглом от краски, мне было трудно читать настоящие мысли. Словно маска была на ней.
А у большого костра шло подношение молодой весне: уже зарезали белую телицу яка, уже на ее шкуру, разложенную перед огнем на камне, сыпали очищенные кедровые орешки, лили молоко, посыпали мукой с песнями, славой весне, с рассказами, как пережили зиму. На костре варили мясо и всем, кто подойдет, давали его — приводили слабых, больных или детей, чтобы сытной похлебкой порадовать после поста. А отец ждал пленников, которых собирались отпускать в тот год.
Большой войны не было несколько лет, и все эти годы обходился праздник без пленников. Но этой осенью на дальнем выпасе увели скот. Люди собрались и догнали воров. Их было трое, двоих убили, а третьего, еще мальчишку, взяли себе. Он жил всю зиму в стане, и отец ездил смотреть на него и допрашивать. И мне рассказывал о нем. Это был мальчишка из степских, как и царевич Атсур, некогда живший у нас. То было племя наших древнейших врагов. Казалось, по пятам за нами шли они от самой Золотой реки. Как осел наш люд в этих горах, подоспели и степские, хотели выбить нас из хороших зимних пастбищ. Но после гибели царя и пленения царевича отошли и не являлись больше. До этой осени.
Отца тревожило это. У мальчишки все пытался он узнать, как далеко стоит его племя, большие ли у них стада и кочевья. Но ничего не мог добиться: мальчишка был глуп, языка не понимал, звездного неба не знал и очень всего боялся. Что не явились за ним, говорило отцу, что это была случайная встреча. Но и случайность была знаком.
Обо всем этом рассказывал мне отец зимой, и не лежала его душа к тому, чтобы отпускать пленника. Предвиденье, дарованное нашему царскому роду от Бело-Синего, тяготило его. Но традицию обойти не мог. Потому велел людям, у кого жил мальчишка, обходиться с ним так, чтоб не хотел он уйти.
Так и вышло: когда вывели его к костру, упитанного, раскосого, темнолицего даже после долгой зимы, и стали спрашивать, хочет ли он уйти, он замотал головой и сказал: «Нет». Глаза его были испуганными, и озирался он так, будто не знал, куда и бежать. Традиция была соблюдена. Мальчика подвели к котлу с мясом, и он получил свою долю.
Я взглянула на отца: доволен ли он? Но его лицо было мрачно, будто тревога не оставила его. Я подъехала и тихонько спросила:
— Отчего ты печален? Он не уйдет и не расскажет, где мы стоим и как живем.
— Это только голос собаки, сама собака еще за холмом, — ответил отец.
— Нам ли бояться войны.
— Степь большая, дочка. Атсур рассказывал, что в их семьях бывает по три или четыре жены, не считая пленниц, и взрослых братьев по двенадцать и более человек. Этот малец только и сумел сказать, что был шестнадцатым сыном в семье, потому всегда мало ел. В наших домах столько и не уместится. Малец не знает, как имя царя, что правит ими, но мое сердце говорит, что это Атсур. В нем достаточно было ярости для того, чтобы прогнать всех своих братьев. А если так, то он вернется, дочка. Сколь ни велика степь — Атсуру она станет тесна.
Мне хотелось говорить с отцом еще, но он похлопал Учкту по холке, давая знать о конце разговора, и отъехал. Парни и девы уже готовились состязаться в стрельбе из лука, дети до посвященья — в беге и метании дротиков, взрослые воины — в борьбе. Скачки еще не наступили, и я поехала смотреть на стрельбу.