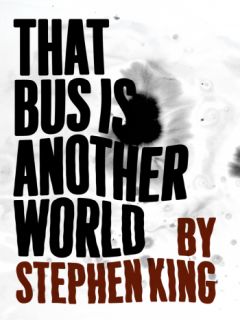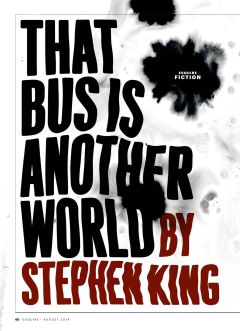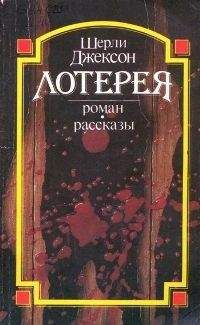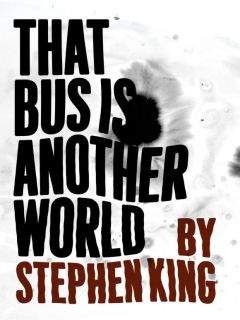Георгий Караев - 60-я параллель
Старая, бурого цвета, жарко нагретая солнцем питерская, ленинградская крыша — место, знакомое кровельщикам, трубочистам, голубям да кошкам, бродящим, где им вздумается... Смотрите, на ней расставлены, как в клубе, венские стулья, легкие табуретки; виден даже один парусиновый шезлонг... На крышах ведется ночное дежурство: десятки тысяч глаз настороженно глядят за северным светлым небом, пока еще мирным и пустым.
Автобус бежал по улицам, и навстречу ему караваном катились грузовые машины с песком, — не для посыпания тротуаров, не для украшения садовых дорожек, но для того, чтобы замешивать в нем бетон, чтобы тушить им хитро построенные фосфорные и термитные бомбы врага.
Толпы людей, молодых и пожилых, мужчин и женщин, с заступами на плече, с кульками продуктов в руке, спешили к вокзалам, как и всегда летом. Как раньше, пригородные поезда уносили их к Волосову, к Калищу и Копорью, к Луге, к Оредежи, в те мирные и милые дачные места, где год назад они купались, загорали, бродили по лесу: этот — за душистой лесной малиной, тот — в поисках первого белого гриба.
Но теперь поезд привозил их не в дачное место, а к тому или другому «возможному полю боя». Тут уже работали топографы и военные инженеры. Среди сочных луговых трав, в гуще ржаных стеблей, между приречными кустами и на солнечных опушках в земле торчали забитые топорами колышки. Они обрисовывали направление противотанковых рвов, узлов обороны, землянок, окопчиков, дзотов...
Еще недавно эти спешные работы казались какими-то тревожно-преждевременными. Да не паника ли это? Ведь противник-то где он еще?
Сегодня всё приобрело иной смысл и значение.
«Что требуется для того, чтобы ликвидировать опасность, нависшую над нашей Родиной, и какие меры нужно принять для того, чтобы разгромить врага? Прежде всего необходимо...»
Нет, это была не паника, это была необходимость. Через нее нужно было пройти, чтобы прийти к победе. Но только как еще далеко, как страшно далеко было до победы от этого июльского дня!
Глава XIII. 10 ВЕРСТ В 1"
Одиннадцатого июля в середине дня эшелон МОИПа готовился, наконец, отойти от дебаркадера Октябрьского вокзала. Он должен был увезти эвакуированных на Вологду, а затем дальше, на Урал. Григорий Николаевич Федченко нашел час времени, приехал проводить дочку и внучат в далекий путь: «Обижаешься на мужа, Федосья?»
Фенечка Гамалей действительно чувствовала себя обиженной и одинокой. Это было совершенно ново для нее: ее заставили покинуть любимый город, родных; настояли на том, чтобы она уезжала подальше от фронта. И кто настоял? Владимир! Муж!
С детских лет, еще там, в Пулкове, он всегда покорно слушался каждого ее слова. Случалось, что часами он «стоял в углу» за нее, за ее проказы; по первому ее жесту покорно лез в самую гущу крапивы в саду.
Столько лет потом она была бесспорной главой семьи, во всем, всегда. А вот теперь он остается тут, в суровом «угрожаемом» мире, а ее сумел выпроводить в безопасное место, далеко на Урал! Она не могла понять, как такое случилось. И еще это отцовское вечное спокойствие!.. Украинское спокойствие, с насмешечкой!.. Ох, была бы ее воля!..
Эшелон ушел в четырнадцать ноль-ноль. Проводы тех дней невозможно описывать; никто не знал, на сколько времени разлука. Может, и навсегда? Никто не рисковал сговариваться о встрече... Плакали? Да, взрослые плакали, но и то как-то наспех, в чрезвычайном смятении...
Владимир Петрович в последний раз поцеловал своих малышей, а потом и насупленного, не смотрящего никому в глаза Максика Слепня. Мальчик едва сдерживался: во-первых, отец уже отправился, получив назначение, в часть за два дня до этого; отца не было на вокзале. Разве не горько? .. А потом Максика мучило мальчишеское самолюбие: Лодя, как взрослый, остается здесь, в Ленинграде, а его, точно маленького, вместе с гамалеевскими близнецами везут в тыл...
Пестрой толпой провожающие вышли на площадь. Среди них было больше мужчин; издали можно было заметить только светлую шляпку Милицы Вересовой.
Григорий Николаевич Федченко хмуро покосился на спокойную, как всегда, Мику; что бы там ни говорила дочка про подружку, — не нравилась ему она. Хороша, и ума не отнимешь, а... бог с ней совсем!
Григорий Николаевич, надо сказать, вообще был в несколько смутном состоянии. Он не волновался за Феню, нет; ее судьба его не тревожила. Подумаешь, Урал! Не Северный полюс! Поживет — обтерпится; скучать, видать, будет некогда. Младший сын, Женя, тоже не вызывал в нем особых опасений. Оба они, сын и дочка, издавна были в его глазах самостоятельными, не во всем понятными для него людьми. Жили, не очень советуясь с родителями, строили всё по-своему. Таких теперь много.
Совсем другим в глазах старых Федченок выглядел Вася, старший. Этот, трудно даже сказать почему, как был, так и остался для них наполовину ребенком. Всё им казалось, что он чересчур тих, скромен, застенчив.
Что ты поделаешь? Родительское сердце всегда таково, ему не прикажешь.
На деле же полк, которым командовал подполковник Василий Федченко — восемьсот сорок первый полк двести шестьдесят девятой дивизии генерал-майора Дулова, — не имел никаких оснований считать своего командира тихоней или сомневаться в его жизненном опыте.
Подполковника знали за человека скромного и деликатного, за прекрасного теоретика, уделяющего очень много внимания тому, что теперь обычно зовут «работой над собой». Как все такие люди, он, может быть, казался более сдержанным, скупым в выражении своих чувств, чем прочие. Но ни слишком мягким, ни нерешительным его назвать никак было нельзя. Напротив того, в «принятых решениях тверд. С подчиненными — справедлив безукоризненно... Командир образцовый!» — так писали о нем в служебных документах.
Красноармейцы любили своего подполковника почтительно и спокойно. Товарищи уважали его и верили ему безоговорочно. Политработники часто ставили его в пример младшим: о нем говорили, как о безупречном коммунисте, гражданине и воине, какими должны быть все.
Перед войной восемьсот сорок первый вместе со штабом дивизии стоял в Великих Луках. Другие ее полки временно разместились в старых Аракчеевских казармах, где-то на Волхове. Шла хлопотливая повседневная работа, та самая, от которой зависит победа в будущей войне. И вот уже четыре года, как Василий Григорьевич по разным причинам никак не мог собраться в отпуск: каждое лето что-нибудь да мешало. Наконец случилось долгожданное: он отпуск получил. Точнее сказать, на этом настоял человек заботливый — сам генерал-майор. Двадцать первого июня подполковник должен был сдать полк заместителю; двадцать второго — отправиться на юг.
Утром в воскресенье Василий Григорьевич, не веря в такую свою удачу, ехал из города на вокзал. Ежедневные полковые дела никак не хотели уходить из головы; внимательный взгляд командира останавливался то на гимнастическом городке, который начали строить над Ловатью, то на красноармейце Малярове; у парнишки обнаружились удивительные музыкальные способности, — так не забудет ли замполит Дмитриев перевести его в музыкальную команду? С некоторым усилием подполковник отрывался от этих мыслей...
И вот уже, понемногу светлея, начало появляться перед ним в памяти то дорогое и радостное, что он должен будет увидеть завтра, послезавтра, прежде всего — Муся, жена. Она была сейчас в Ленинграде, на курсах усовершенствования ветеринарных врачей. Возникли сердитые, опущенные вниз, шевченковские усы бати; дорогие морщинки маминого лица, глазастая рожица племянницы, Тонечки Гамалей, которую он знал только по карточке, но ни разу еще не видел воочию. Двое суток в Ленинграде, а потом — долгий беззаботный путь на Кавказ; зеленоватое стекло прибоя; дельфины, скользкие, как из глазированного фарфора; неторопливые поездки в город; то к Агурским водопадам, то на Ачиш-Хо, то на Красную Поляну... Нет, хорошо всё-таки!..
Когда мотоциклист из штаба на полном газу, в клубах пыли, догнал его на полдороге, он долго вглядывался непонимающими глазами в торопливые каракули генеральской записки. Что? Не может быть! Неужели — посмели?
Как в каком-то нелепом сне, всё то, о чем он только что думал, что уже видел — черноморская лазурь, ямочка на Мусином подбородке, мамина вечная швейная машинка у окна (он помнил ее с самых первых дней детства), — всё это дрогнуло и, туманясь, как в кинофильме, поехало куда-то в сторону.
А на место этих ясных милых образов, совершенно помимо воли комполка, вырвалось из темных глубин памяти то, чего он не видел, о чем даже не вспоминал уже много, очень много лет: сложенная из груботесанных каменных плит стена Копорского замка, неправильный пролом в ней и... и черные маленькие фигурки, бегущие и падающие на траву там, за оврагом, под убийственным огнем семнадцатилетнего пулеметчика-красноармейца Васи Федченко... Вон, вон... Под одиноко стоящим среди поля раскидистым деревом...