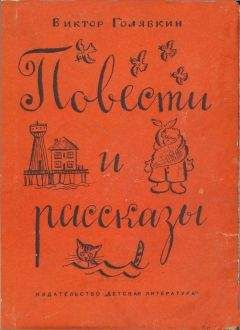Магда Сабо - Скажите Жофике
– Лучше бы вы в полдень выходили. Вам на солнце побыть надо, – сказала Марта, – солнечные лучи для вас необходимы.
Понграц помолчал, затем ответил, что днем на площади полно народу. А он не любит, когда на него глазеют. И что за интерес людям разглядывать хромых? Потом старик заговорил о погоде. До чего же тепло на дворе, прямо не верится. В его квартире внизу холодно и сыро, как в склепе.
Марта Сабо спросила, как у него нога. Оказалось, что старик назначен в понедельник на комиссию. Гипсовая повязка у него "ходячая", так что карету скорой помощи за ним не пошлют – сам добирайся, как знаешь. Ладно еще, что поликлиника не так далеко.
– Вам девочка поможет, – попыталась успокоить его Марта.
– Ей надо обед варить, – проворчал старик и внезапно посмотрел на Марту, словно что-то вспомнил.
– Вы, барышня-учительница, только учите Жофику или еще и классным руководителем ей приходитесь? – спросил он.
– Да, она в моем классе.
– Что ж тогда не смогли проследить, чтобы этот пьяница не тревожил ее?
Знать бы, о чем он! И опять этот колючий взгляд! "За что вы там наверху только деньги такие получаете?" Он так на нее смотрит, когда прикрепляет в классе оборвавшуюся грифельную доску или вставляет разбитое стекло. Она сидит на кафедре и, по мнению Понграца, палец о палец не ударяет. У Понграца сейчас было такое выражение лица, словно он хотел сказать: "Только и знаете, что бегать по домам да совать свои носы в дела бедных людей, а когда людям помощь нужна, лишь глаза таращите и ничего толком не можете сделать".
Марта должна была признаться, что не понимает, о чем говорит Понграц. Старый Пишта отыскал трубку. Теперь-то он уже глядел веселей. Ему обычно доставляло удовольствие, когда он знал то, чего не знали другие, и особенно если был осведомлен в чем-нибудь лучше учителей.
– Этот пьяница-бездельник по целым дням не вылезает из корчмы, а девочка домой боится идти. В понедельник у него проверка. Ежели он не окажется на месте, его могут выгнать с работы.
Кого? Откуда? За что?
– Вот о чем надобно думать, а вы только и знаете, что грамматике учить, – все больше распалялся старик. – Бедняжка с пеленок зарабатывает себе на хлеб, и мать еще, как назло, увольняют с фабрики. Или, барышня-учительница, вам неизвестно, что мамаше той сделали под козырек: скатертью, мол, дорога? Ни отца, ни денег у них нет, а этот тип пьет.
Что делать? Марта просто растерялась. Жофи не лжет, она никогда не лгала. Ее работы по венгерскому языку – толковые и сухие, у нее нет никакого интереса к гуманитарным наукам. На выдумки способны скорее дети, имеющие литературные наклонности. Какой-то абсурд. Не может быть, чтобы Жофика выдумала такую чушь, что мать ее работает на фабрике и прочее… И насколько ей, Марте, известно, в Будапеште у Надей только один-единственный родственник – Халлер, при чем тут какой-то пьяница? Глупости все.
"Сидит и глаза пялит, – подумал Понграц. – Опять же оклад, считается лучшим учителем, а сама не видит, что под боком творится. Бедная девчонка, бедная сиротинушка! Коли уже с понедельника такое начинается, воображаю, что там делается сегодня! Ведь суббота есть суббота, даже для таких вон, как Хидаш, который вместо вина молочко пьет. Скажите пожалуйста, с дамочкой прогуливается, да еще с молоденькой! Ох и не понравится это барышне-учительнице! Хорошо хоть со мной так заговорилась, не видит и не слышит ничего вокруг. Авось пронесет".
Но Марта заметила Хидаша. Он был со старшей дочерью Лембергер, она училась в институте. У девушки такие же льняные волосы, как и у младшей сестренки, только глаза другие, серые. Волосы носит "конским хвостом", платье в крупный горох. Алиса Лембергер. Вот девушка споткнулась, Хидаш удержал ее за локоть, и дальше они уже пошли под руку.
Какие, должно быть, длинные волосы у этой старшей Лембергер, если она их распустит. Наверное, до пояса.
Марта посидела еще с минуту и поднялась. Захотелось домой. Понграц продолжал что-то бормотать: дескать, счастье простых людей в том, что они живут сплоченно и что Андраш Киш (это еще кто такой?) наведет надлежащий порядок. Ничего не поняв из слов старика, она медленно пошла к дому. От витрины аптеки падал яркий свет. Дежурный аптекарь Риглер, отец пятиклассницы Кристи Риглер, растирал что-то в фарфоровой ступке. Красный крестик на дверях мягко светился. Он словно говорил: "Будьте спокойны. Здесь всегда придут вам на помощь".
Уже дома Марта неожиданно стала вспоминать гимназические годы. В памяти ожили пышноволосая Юдит Папп и Като Надь. У Като еще в восьмом классе появилось обручальное кольцо. В школе ей было запрещено носить его, и во время занятий она надевала кольцо на свою цепочку, рядом с изображением Марии. В тетради по латинскому языку на последней страничке, предназначенной для пометок, было выведено: «Супруга музейного практиканта Калмана Халлера». Почему-то вспомнился Паллаи, профессор педагогики, и стеклянный купол парадного двора университета, на котором зимой прозрачной пеленой лежал снег. Они метались по двору, возмущаясь, ругая университетский совет, который заставил всех студентов поголовно обследоваться в клинике. И главное – перед самым экзаменом по педагогике. Студентам и так нелегко: уже целый год проходят они педагогическую практику и сломя голову носятся от гимназии к университету! А тут еще срочно потребовались данные об их состоянии здоровья. Для какой-то статистики следовало выяснить, сколько среди слушателей университета туберкулезных и косоглазых. Долго откладывали они тогда это неприятное дело, но в конце концов все же пришлось пойти. Больше всего возмущало девчат то, что осмотр производили молодые врачи почти одного с ними возраста. Юдит беспрерывно причитала по этому поводу, однако перед осмотром надела самое нарядное белье. Какой она стала пунцовой, когда они со спущенными лямками вошли в кабинет, где проверяли сердце, и к ним повернулся стоявший у окна долговязый доктор. Это был старший брат Като – Габор Надь, которого они уже много лет не видали.
Значит, Хидаш хотел сказать ей тогда, что решил жениться. И правильно делает, нелегко человеку жить в одиночестве. Марта стала готовить себе ужин. Она достала со льда и зажарила полцыпленка, его хватит и на завтрашний день, – в воскресенье ей не придется снова готовить обед и она сможет отдохнуть. И чего она не уехала куда-нибудь на лето! Теперь у нее по всякому поводу и без повода глаза на мокром месте.
"И фонтан тоже развалился во время бомбежки, – думал старый Пишта, – это уже новый". Когда снаряд упал на школу, у девицы, которая стирает, отскочила голова и руки поотломались. Сколько лет прошло, пока ей снова прилепили голову на место. Лицо вроде то же, а если присмотреться – другое, какое-то новое. Но фонтан все-таки хорош: стоит себе девица на коленях, волосы длинные, как у Жофики, на глаза падают, работать мешают. У Эржи была короткая стрижка – она не терпела длинных волос. Вечно лазила всюду, как мальчишка, и кричала благим матом, когда волосы цеплялись за что-нибудь. Глупая мать уступила девчонке и срезала ей косы. А как Эржи любила этот фонтан! Все время сюда просилась. И ходить тут училась, на круглой площадке. Сколько радости было, когда ей удалось наконец дотопать ножонками до фонтана. Доберется, шлепает ладонями по камню и сопит от гордости, что твой поросенок.
В такое время трамваи идут порожние. Люди теперь уже сидят по театрам, а возвращаться будут только к одиннадцати. Так что кондукторам можно присесть. Тяжелая это работа, утомительная. Попробуй-ка один-единственный день с утра до вечера попродавай билеты, и никогда больше не станешь орать на кондуктора, если он случайно не того… Какой молодой крепыш Имре, а ноги все были в синих узелках вен. Когда зятя извлекли из-под развалин, он, Понграц, больше всего на ноги его глядел – черт знает, куда глядит человек в такие минуты жизни! Он стоял среди камней на коленях, а старые глаза его видели только эти ноги: он сразу узнал их. Эржи была обута в белые сандалии – долго рыть не пришлось, чтобы понять, кто там лежит.
К ночи шум улицы кажется глуше, чем днем, а каждый звук отчетливее и слышнее. Кто его знает, почему это происходит. Человек слышит такие шорохи, на которые днем вовсе не обратил бы внимания. С тех пор как он не выходил из дому, прошло, пожалуй, недель шесть. Когда тот бедняга доктор умер, он, Понграц, вернулся из клиники прямо не в своем уме; обиднее всего, что он знал про ящик с раствором извести, но совсем запамятовал о нем. Когда опомнился, Секей с Андрашем Кишем уже тащили его, старика, вниз по лестнице, а ступня так болталась, что даже смотреть было тошно.
На противоположной стороне площади, за спиной Понграца, открылись ворота. Не мешало бы смазать петли, уж очень скрипят. И шаги резко отдаются в ушах. Легкие, быстрые. Кто-то совсем рядом проскользнул по усыпанной гравием дорожке к фонтану. Принесла же кого-то нелегкая ему на голову! Уж совсем было один остался, только думал отдохнуть – и на тебе. Видать, не взрослый прошел – дитя. Чего этой крохе нужно тут, у фонтана, после девяти часов вечера?