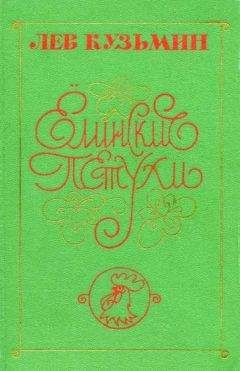Лидия Чарская - Том 02. Желанный царь
На заморских, вывезенных из Неметчины, часах, стоявших на высоком поставце в соседних со стольной горницей сенях, отбило мерным звуком двенадцать ударов.
— Едут! Едут! — маша шапкой, закричал на бегу молоденький челядинец, бросаясь от ворот, у которых сторожил появление боярского поезда.
В тот же миг вся засуетившаяся челядь метнулась к воротам.
В конце улицы, у крестца, показалась группа всадников. Впереди всех на гнедом Карабахе ехал в нарядной одежде — терлике и в невысокой шапке — ближний боярин и думец, главный хозяин романовского подворья и представитель этого знатного рода, Федор Никитич.
Он казался много моложе своих пятидесяти трех лет. В его величаво-красивом лице с темно-русой, едва тронутой сединой бородкой, которую он подстригал по европейскому обычаю, в темных, проницательных, полных ума и энергии глазах теперь сказывалась какая-то тревога.
За ним ехал верхом второй брат его, тоже думский боярин, Александр Никитич. И у добродушного на вид, второго Никитича те же следы немалого волнения и тревоги сказывались во всем. Да и следовавшая за старшими Романовыми молодежь, младшие братья, красавец богатырь Михаил, недавно произведенный из стольников в окольничие, о физической силе и чисто русской красоте которого говорила вся Москва, Василий и Иван Никитичи с князьями Черкасскими и братьями Сицкими да с дворянами Шестовыми, их родственниками и свояками, были тоже как будто не в себе в это теплое по-летнему, ясное утро начала мая.
Без обычных шуток, веселых бесед и громкого говора прискакали нынче на подворье бояре и их гости, спешились у высокого рундука, бросив поводья на руки челяди, и следом за хозяином дома прошли в стольную избу.
— Наши вернулись, и с гостями! Да не веселы что-то. Ой, чует лихо сердце мое! — произнесла, выглядывая в окно женской половины боярского терема, сама молодая боярыня, Ксения Ивановна, из рода Шестовых, чернобровая, белолицая женщина лет тридцати, с небольшим, решительным умным лицом и быстрыми, смелыми, энергичными глазами, жена старшего Романова, Федора Никитича.
— И полно беду накликать, невестушка! — произнесла княгиня Марфа Никитична Черкасская, старшая сестра Никитичей. — Вернулись наши соколы поздорову, сама ведаешь, а што невеселы, так с устатку это. Небось не легкое дело в думе государевой заседать. Да вдобавок по нонешним временам, когда, окромя как на родичей своих Годуновых, царь и глядеть ни на кого не хочет, только их и слушает, им только и доверяет… им одним.
— Полно, сестрица, — вмешалась в беседу двух боярынь молодая жена Александра Никитича, боярыня Ульяна, — ведь и мы по свойству царю нынешнему не чужие, с тех пор как сестрица Ириша за племянника выдана царского.
— А все же, сестрицы, чует мое сердце, — снова с легким вздохом произнесла Ксения Ивановна, — недолюбливает наших бояр царь Борис.
— Тише! Детки с Настею да мамой сюды идут! — произнесла княгиня Марфа и бросилась навстречу племянникам, которых, будучи сама бездетной, любила как собственных детей.
— Видали! Видали, как батюшка с дядями прискакал на аргамаках! Ходко таково! — весело лепетал Миша, минуя тетку и бросаясь в объятия матери, пряча оживленное, раскрасневшееся личико в складках ее богатой и нарядной телогреи.
— Родимый ты мой! — ласково шепнула молодая боярыня, прижимая к груди своей ребенка, и несколько твердое, энергичное выражение ее красивого, полного лица озарилось невыразимым выражением любви и нежности материнства, а полные затаенной тревоги глаза прояснились сразу и засияли светом горячей нежной любви.
— Сокровище ты мое! — непроизвольным шепотом соскользнуло с ее румяных уст, улыбавшихся теперь малютке-сыну блаженной улыбкой. Он был ее радостью и утешением, самым первым и лучшим из сокровищ романовского подворья, он и голубоглазая сестра его Таня. Троих, Бориса, Льва и Никиту, старших детей, Федор Никитич и Ксения Ивановна схоронили еще младенцами, четвертого, грудного мальчика, потеряли недавно. Зато эти двое выжили и подросли на утешение и радость родителям и близким.
И теперь, позабыв недавние тревоги, мать ласкала обоих детей с той беззаветной нежностью, на которую способны одни только матери.
***
Но тревога и предчувствия боярыни Ксении Ивановны были не напрасны.
В то время как в женском тереме она с золовками любовалась своими ребятишками, в стольной избе, после того как слуги внесли и расставили на столе несколько перемен яств и питий, завязалась между хозяевами и гостями самая оживленная беседа.
Не прикоснувшись к жареным лебедям, курам, уткам и рябам, со всевозможными взварами и подливками всякого рода, к подовым пирогам, лепешкам и мясным студням (день был скоромный), к бесчисленным похлебкам, подававшимся после жаркого и обильно покрывавшим стол, осушив одним духом кубок с заморской романеей, Федор Никитич, хозяин дома, произнес, обращаясь к молча угощавшимся вокруг стола гостям, предварительно движением руки выслав из горницы челядь:
— Неладное затевает что-то нынче ворог наш, окольничий Годунов, Семен Никитич. Намедни в передней государевой такое отмочил он брату Александру слово, что не будь то в дворцовой палате, кажись, не сдержаться мне, и света Божьего невзвидеть бы охульнику…
— Твоя правда, братец, — произнес обычно спокойный и добродушный, теперь же крайне взволнованный второй Никитич. — Осмелился он, — обратился Александр к внимательно слушавшим его с братом присутствующим, — дерзнул такую зацепу мне пустить, когда я вместе с братом и Шуйским, князем Васильем, да Воротынским-стариком завели беседу о датском королевиче Ягане, что следует сюда для брака с царевной Ксенией, буде али не буде королевич перед честным венцом переходить в нашу веру, такое слово молвил: «Не заморские, говорит, не крещеные по нашему обряду принцы страшны, боярин Александр Никитич, а свои московские бояре куды страшнее, которые на царскую державу зубы точат да на здоровье государево зло умышляют, вот те поистине страшны!»
— А ты что же ответствовал на это, брат? — вырвалось у молодого несдержанного Михаила Никитича на всю стольную горницу.
— Ответствовал я за него, што нет у великого государя врагов ноне, а верные слуги одни стоят у кормила правления, а что ежели ведает про какую там измену он, Семен Годунов, так пущай о том оповестит нас всех, и мы разделаемся сами с изменниками царскими. Вот что я ответствовал ему вместо Александра — так старший брат закончил свою речь.
Красавец Михаил так и подскочил на месте.
— Эх, брат Федор, жалости достойно, что меня там не было! Я б ему показал. Не поглядел бы на то, что он ухо и око государево (Так прозвали остальные родовитые бояре всем ненавистного родственника царя Бориса, окольничего Семена Годунова), я бы отбил в нем охоту верных и честных слуг государевых чернить!
И глаза молодого Романова заметали молнии, а рука, державшая кубок с вином, заметно задрожала от охватившего его волнения.
— Полно, Миша, — ударив его по плечу, произнес старший Романов, — ну и в худшую беду ввел бы нас, братьев. Или не ведаешь, что царь Борис только Семену Годунову и верит нонче… Только его и слушает. Уж давно я примечаю, что волком косится на нас ближний боярин. То ухмыльнется, то глаза отведет, нынешние слова об изменниках и подавно не зря им сказаны. После думного сидения остановил я его в дворцовых переходах и один на один спросил: «Куда,
Так прозвали остальные родовитые бояре всем ненавистного родственника царя Бориса, окольничего Семена Годунова.
говорю, гнул, Семен Никитич, намедни? Што за речи брату поутру говорил?» А он мне такой лисой прикинулся: «Што ты, говорит, окстись, боярин! С чего всполошился? Не всякое, говорит, лыко в строку. Коли совесть твоя чиста, так, говорит, нечего тебе о моих речах и мыслить», — и ужом из рук моих вывернулся и поспешил от меня. Только, чую, неспроста были те речи. А притянуть за них к ответу нельзя. Тонко дело свое знает, лисица, хвостом виляет и уцепиться не дает.
— И государь великий из-за него как будто последние дни на нас немилостиво глядит, — ввернул свое слово Александр Никитич.
— Великому государю ведомо, что все Романовы с родичами и свойственниками своими его верные слуги? — произнес Федор Никитич тоном, не допускавшим возражений, и, поднявшись со своего места, произнес здравицу царю в виде длинной, витиевато составленной послетрапезной молитвы, которую царь Борис с первым советником своим, патриархом Иовом, сочинили совместно и передали боярам и людям московским со строгим приказанием ежедневно читать ее за столом.
Трапеза кончилась.
Невесело разошлись из-за стола хозяин и гости по заготовленным покоям для послеобеденного сна, вмененного чуть ли не в обязанность каждому русскому человеку в то время.