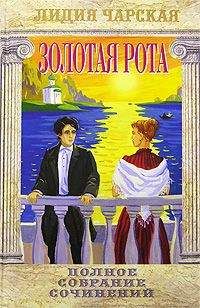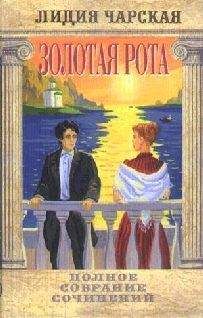Лидия Чарская - Золотая рота
И уже много позднее кто-то повел его на угрюмое песчаное кладбище, сплошь заросшее соснами, и, останавливаясь над желтым холмиком, обвитым иммортелями, сказал:
— Тут лежит твоя мать.
Тогда Марк понял, что у него была мать, и, странное дело, почувствовал при этом не тоску, а радость, потому что иметь мать значило иметь детство и ласку, хотя бы кратковременную и мимолетную, как сон.
И потом началась та пытка, которую люди называют жизнью и которой не предвидится конца.
Отец пил и дрался… Смерть белой женщины подняла в конторщике Ларанском все позабытые слабости молодости и вылила наружу то обилие темной силы, которая таилась в нем.
Белая женщина сумела было подавить в своем друге пагубные привычки и своей нежной, хрупкой рукой отвела его от той бездны, к которой тот стремился. Но белая женщина, несмотря на всю силу своей любви, не могла осилить природы.
Природа победила ее друга, победила, как страшный зверь, тешась над ее бессилием отнять у нее раз намеченную жертву. И белая женщина отступила, покоренная ею.
Она погибла. И смерть ее, развязавшая руки Ларанскому, вернула его к той непроглядной мгле, куда властно вели его инстинкты.
Конторщика Ларанского ценила фабрика.
Администрация ситцевой мануфактуры отлично понимала, что за те жалкие гроши, которые получал этот темный, но, бесспорно, честный и прямой человек с жестким складом ума и сердца, нельзя требовать большего.
И слабость его знали, относясь снисходительно к ней.
К тому же он имел привычку пить тогда, когда обычные подсчеты выдач и выручек заканчивались за день, и пьяным Ларанского мог видеть разве один только Марк, его сирота-ребенок.
Марк унаследовал от отца его угрюмую, жесткую настойчивость, его почти животное упорство и мысли, и поступки, и болезненную мстительность дикого, озлобленного дитяти.
Но белая женщина, умирая, оставила в нем частичку самой себя в виде капельной дозы чуткости, скорее вредившей, нежели помогавшей стройности душевного инстинкта Марка.
Он рос один, на свободе, среди таких же маленьких дикарей, родителей которых, как отцов, так и матерей, деспотично отнимала та же фабрика, с тем чтобы за жалкие подачки выпить их кровь по каплям и вернуть их под старость обессиленными и ненужными семье.
Оборванный, грязный, он рос, как паршивый щенок, среди прочих ребятишек.
Его обижали все, кому было не лень, потому что он был сирота и родился до брака, ребенок любви, обязанный ответить судьбе за грех его родителей.
Белая женщина умела любить и поплатилась за это. И расплатой за эту любовь явилось ее дитя, Марк, которому не следовало ни жить, ни родиться.
Строптивый, гордый и затравленный, он не мог и не умел привлекать к себе симпатий. И с угрюмым упорством платил он ненавистью за ненависть, враждой за вражду.
Голодная, измученная в работе толпа беспощаднее судит людские проступки; она с двойной жестокостью карает за них.
Дело копотное и тяжелое создало в ней эту жестокость.
И эта толпа не могла простить белой женщине, обладавшей нежными, непригодными к труду руками, ее падения и сытой жизни, потому что белая женщина была дочь того же серого люда, дитя того самого фабричного народа, который, обливаясь потом, а подчас и кровью, отдавал свои трудовые силы жадной и безучастной фабрике.
И когда конторщик Ларанский, настояв на своем, дал имя своему ребенку, сделав любовницу женою, серая толпа не укротила своей ненависти.
Грех оставался грехом, падение — падением. И она простила бы, эта толпа, и грех, и падение молодой женщине, если бы молодая Ларанская не ушла от нее, не отделилась от ее среды, чувствуя свою обособленность и полную несолидарность с фабричной толпой.
Их дети, младшее поколение этой толпы, в силу наследственности, а частью в силу бестолковой детской беспощадности, перенесли ненависть их отцов и матерей на Марка, приплод белоручки-матери. И в невинных детских играх фабричных ребятишек и сынишки конторщика порою глухо волновалась сознательная, недетская жестокость, слышались опасные, недетские речи, звучала горечь и угроза, и острая боль обиды чувствовалась сильнее в детских устах.
Соседство с фабрикой давало себя чувствовать и в детском мире.
Когда Марк возвращался к отцу, обиженный и избитый, и получал новые побои от озлобленного, усталого, топившего всю житейскую горечь в вине Ларанского, в его душе закипала новая обида, и мозг туманился от бессильного сознания найти себе защиту.
Отцовские побои, порой бессмысленные, порой заслуженные, притупляли в нем последнюю чуткость дитяти, и скоро он начал воздавать должное людям, перестав различать добро и зло, правду и ложь.
Он стал таким, каким его стремились сделать, стал дикарем-Марком, бичом окружающих.
* * *На перекидном мосту, ведущем от города к фабричному острову, Марк встретил Лизу.
На ней было светлое платье, а на груди резким красным пятнышком выделялась знакомая брошь, та самая, которую еще вчера носила Китти Лаврова, средняя дочь управляющего.
И ни тени стыда или смущения не выражало ее розовое лицо, дышащее здоровьем и брызжущее весельем. И синие глаза, и алые губы — все смеялось без улыбки в этом молодом лице, таком жизнерадостном и красивом.
Поравнявшись с Марком, она окинула его взглядом и захохотала громко и вульгарно на всю улицу:
— Ловко тебе попало? Будете нахальничать? Молокососы!
И презрительно выпятив губку, прошла мимо него, шумя туго накрахмаленной юбкой и обдавая его запахом духов, пряных и острых, как мускус.
Марк оглянулся, и первое, что бросилось ему в глаза, были ее волосы, туго сплетенные и уложенные косой на затылке, напомнившие ему разом те золотистые нити, которые он нехотя увидел над рекою. И эти волосы, ярким жгутом уложенные на затылке, отчетливо-ясно напомнили Марку эту беспомощно подвигающуюся утром по реке фигуру, которая влила в его сердце столько горечи, обиды и злобы.
Боль пережитого утратила со временем свою остроту, расплылась в новых впечатлениях и оставила в нем теперь одно только воспоминание. Но и к утренней злобе на Лизу, и к обидному презрению, примешивающемуся к ней, присоединилось теперь еще какое-то новое, властно закопошившееся в душе Марка чувство. Оно появилось в нем впервые, и он не сразу понял его.
И только когда Лиза отошла от него и, опершись всем своим рослым молодым телом на перила моста, остановилась перед Глебом, неизвестно откуда и как вынырнувшим в эту минуту ей навстречу, Марк ощутил в себе какую-то обидную пустоту.
Как будто что-то потемнело и заглохло в воздухе. И вечер нахмурился. И стеклянная вода реки, ласкавшая берега фабричного островка с легким монотонным лязгом, стала бессодержательной и темной. И все болезненно пережитое за сегодняшний вечер, отодвинувшееся и ушедшее было в глубь души Марка на минуту, снова заговорило и зашумело в нем. Все, что было лучшего в этом вечере, в этой притихающей природе, исчезло разом из души Марка.
Что-то тяжелое, мертвое и жуткое надвинулось на него.
И потому надвинулось только, что ушла Лиза.
Если б в эту минуту сияло солнце, Лиза унесла бы его с собою, в золотом жгуте своих пышных кос. Так подумал Марк, когда ее уже не было подле. И его неудержимо повлекло в эту минуту к ней, Лизе.
К этой Лизе, прямой и понятной, которая уколола его сейчас своим обидным смехом, а не к утренней Лизе, показавшейся ему сегодня в реке и овеянной таинственной прелестью своей красоты, которой он не понимал и чуждался.
Та Лиза по-прежнему пробуждала в нем обиду и ярость. Ту Лизу он ненавидел почти. А эту стремился удержать подле себя, чтобы видеть близко-близко красивое, смеющееся затаенным в нем смехом лицо и этот золотой жгут на затылке, на который ему было почти так же больно и приятно смотреть, как на солнце.
Чувство двоилось в нем, и ему было жутко и страшно от той пустоты, которую оно вело за собою. И, пугаясь этой пустоты и разом охватившего его воспоминания о пощечине, он подошел к говорившим, совершенно позабыв о том, кому он обязан полученным оскорблением, и спросил:
— О чем вы?
Глеб, в клетчатом летнем щегольском костюме, в лихо заломленной на затылок форменной фуражке одного из столичных коммерческих училищ, прищурился при его приближении и, подмигнув ему, произнес с улыбкой:
— Вот видел ты дурочку? Ее Михайло Хромой хочет в жены, и как ты думаешь — она соглашается за него идти. А?
— А то нет? Ловко придумали! — рассмеялась Лиза, и от ее смеха почему-то мурашки забегали по телу Марка.
Теперь ему беспричинно хотелось заставить Лизу замолчать при Глебе или, взяв ее за руку, отвести куда-нибудь подальше от маленького города, чтобы этот срывающийся на высоких нотах смех, насильно влетавший в его душу, доставался ему одному.