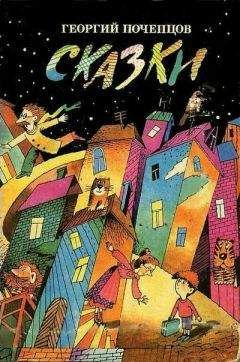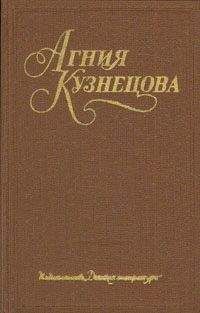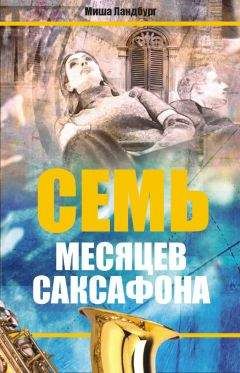Софья Могилевская - Повесть о кружевнице Насте и о великом русском актёре Фёдоре Волкове
— Вечно у тебя непутёвое в голове, Фёдор Григорьевич. И чего тебе приспичило? Можно сказать, возле самого родительского порога...
Но человек лишь улыбнулся в ответ. Бросил ласково и непреклонно: «Ладно, будет тебе, Егорыч!», и снова приказал ямщику, чтобы тот ехал дальше.
Ямщик взмахнул кнутом, лошади резво взяли с места и пошли вперёд. А человек остановился на обочине дороги, что тянулась по обрывистому берегу Волги мимо того плетня, что огораживал сухаревскую усадьбу.
Человек этот был одет в щеголеватую поддёвку купеческого покроя. Шапку, сдёрнув с головы, он держал в руке, и русые волосы его, ничем не прикрытые, волнистыми прядями падали назад, открывая высокий, красивый лоб. Глаза, подбородок, чуть приметная усмешка, трогавшая губы, всё говорило о проницательном, живом уме и твёрдом характере. На вид ему было лет двадцать с небольшим.
Привычная картина открывалась сейчас его глазам. Справа Волга широко и привольно несла свои глубокие воды. Впереди, возвышаясь над одноэтажными домами, виднелись золотые кресты на голубых, разукрашенных затейливой росписью и лепкой куполах ярославских церквей. Ещё дальше— кремлёвские башни и стены. Отсюда всё ему казалось особенно нарядным, богатым и красивым. Как всегда бывает с людьми, вернувшимися после долгой отлучки, он по-новому смотрел на свой город и любовался им...
— До чего славно, до чего хорошо! — воскликнул он вполголоса.
Солнце щедро золотило всё, что было перед его глазами.
Вволю наглядевшись, он медленно пошёл следом за своей уехавшей вперёд повозкой. А пройдя несколько шагов, вынул из кармана книгу небольшого формата, отпечатанную на желтоватой бумаге.
Теперь он уже не глядел по сторонам, а весь углубился в чтение, иногда останавливаясь лишь для того, чтобы громко, вслух прочесть отдельные стихи из книги. Затем он снова шёл, на ходу читая, и снова приостанавливался, произнося где шёпотом, а где и в полный голос.
— Этой трагедией весьма обрадую братьев и других ребят, — вдруг перестав читать, сказал он. И с какой-то мягкой, хорошей улыбкой прибавил: — Особенно Ваню Нарыкова. Его-то более всех других...
И тут он услыхал пение. А услыхав, остановился и вовсе перестал читать.
Женский голос, ясный и чистый, пел незнакомую ему песню. Пел так хорошо и проникновенно, с таким чувством выговаривая слова, что он, забыв о книге, что была у него в руках, стал слушать.
Не подняться вам, туманушки,
Со синя моря долой!
Не отстать тебе, кручинушка,
От ретива сердца прочь...
Он прислушивался, удивляясь выразительности и силе чувства, которую вкладывала поющая в слова песни. Неожиданно для себя свернув с дороги, он пошёл к плетню, из-за которого доносилась песня, и увидел девушку.
Она была совсем юная. В неприглядном сарафане из домотканой пестряди. Худенькая, бледная, с милым и тонким лицом. Пела она негромко, не думая и не зная, что её кто-нибудь посторонний может услыхать. Закрыв глаза, она обхватила рукой прямой ствол рябины, прижавшись к нему щекой.
Ты возмой, возмой, туча грозная,
Ты пролей, пролей, част-крупен дождичек,
Ты размой, размой земляну тюрьму...
Она пела, а скупые непрошеные слёзы одна за другой медленно выкатывались из-под её опущенных ресниц...
И вдруг она почувствовала взгляд, устремлённый на неё. Открыла глаза и в нескольких шагах от себя увидела того, кто её слушал.
Оборвала песнь...
Сперва побледнела, потом, тихо охнув, залилась румянцем.
И не успел незнакомец слово вымолвить, как она кинулась от плетня и мгновенно исчезла в зелёной глубине сада...
В Москве на Красной площади
Купеческий сын Фёдор Григорьевич Волков возвращался из Москвы. Недавно от умершего отчима, купца Полушкина, ему с братьями достались по наследству серно-купоросные заводы. Одни находились в самом Ярославле, другие недалеко от Ярославля. Ведение дел требовало частых поездок в Москву. Ездил в Москву обычно Фёдор Григорьевич, старший из пяти братьев Волковых.
Это случилось несколько дней тому назад. Будучи в Москве, Фёдор Григорьевич пошёл к купцу Свиягину, с которым покойный отчим вёл дела. Лавка Свиягина находилась на одной из улиц, прилегавших к Китай-городу, и Фёдор Григорьевич отправился туда через Красную площадь.
Было раннее утро. Косые лучи солнца освещали пёстрые купола Василия Блаженного, радуя глаз их неповторимой дивной красотой, и красные, под зелёной черепицей, башни Кремля, и шумную толпу, от зари до зари наполнявшую площадь.
Фёдор Григорьевич шёл стремительно. Занятый своими мыслями, он нетерпеливо отмахивался от надоедливых сидельцев возле погребков-землянок. Те, звеня стаканчиками, наперебой предлагали ему отведать заморских вин, закусить их миндалём, изюмом.
Дороги он не выбирал, шёл напрямик. В иных местах телеги с товаром скучились так тесно, что ему то и дело приходилось где перешагивать, а где и вовсе перелезать через оглобли, чтобы продолжать свой путь.
В те стародавние времена по всему пространству от Василия Блаженного до Никольских ворот, прямо под открытым небом, раскидывалось огромное многолюдное торжище.
Ещё до света со всех окраин Москвы сюда тянулись телеги, полные товаров. Везли сюда изделия скобяные и кожевенные; несли лотки с пирогами и шесты с лаптями; разные чашки, да ложки, да плошки; решёта с ягодами, отборные овощи.
Чем только здесь не торговали!
Из одного ряда раздавалось разноголосое кудахтанье кур, кряканье уток, гоготанье гусей. Там был птичий рынок.
Тут предлагали свои товары меховщики, шорники, сапожники.
Пирожники с лотками, ловко снуя меж людскими потоками, зазывали пронзительными голосами:
Вот у меня с луком и перцем,
Со свежим говяжьим сердцем,
Масло через край льётся
И подлить ещё найдётся...
В одном углу площадь была застлана густым слоем волос. Нога ступала по нему, будто по мягкой перине. Это расположились брадобреи, орудуя ножницами и гребнями. Кому надо — стригут волосы на самый модный образец. А кто любит по старинке, тому надевают на голову глиняный горшок и ровняют «под горшок». А зуб болит — можно больной зуб выдернуть. Недаром цирюльники зовутся и «зубоволоками». Они же, если недужится, берутся больному кровь пустить.
Фёдор Григорьевич глянул на часы.
Огромные, с золотыми цифрами по чёрному полю, они и тогда были на Спасской башне Кремля и виднелись со всех концов площади.
Большая стрелка, переходя с минуты на минуту, приближала время к шести утра. Фёдор Григорьевич ускорил шаги. Раз уговорились встретиться со Свиягиным ровно в шесть, надо поторапливаться. Аккуратность в торговых делах — прежде всего. Так учил их, братьев Волковых, ими почитаемый до сих пор покойный отчим.
У белой стены Китай-города, что спускалась к Москве-реке, Фёдор Григорьевич хотел повернуть влево, и тут он увидел лотки с книгами. Книги на этих лотках лежали прямо так, навалом.
Замедлив сначала шаги, он потом и вовсе остановился возле одного из них. Уйти от такого соблазна не хватало сил.
Ещё раз глянул на часы. Подумал: «Э, чего там, успею! Минуты три посмотрю, не больше...» — и принялся пальцами, жадными до книг, перебирать лежавшие перед ним книги.
Одни были ветхие, истрёпанные, написанные прямо от руки замысловатым сплетением старинной вязи. Другие — в крепких переплётах из свиной кожи, печатанные на немецком и французском языках. Были тут книги из Голландии, привезённые ещё при царе Петре.
Многие из них Волков откладывал в сторону, лишь мельком оглядев.
Неожиданно в руках у него оказалась тоненькая книжка, совсем новая и без переплёта. Она была из плотной, но желтоватой бумаги. На титульном листе книги значилось:
XОРЕВ.
ТРАГЕДИЯ АЛЕКСАНДРА СУМАРОКОВА
— А ну-ка... — пробормотал он, взял книжку в руки и со вниманием начал её перелистывать.
Трагедия «Хорев»
Прошёл час.
Прошло и много более часа...
А Волков всё стоял у лотка с книгами, и в руках у него была всё та же трагедия Сумарокова «Хорев».
Давно миновало время, назначенное Свиягиным для делового разговора. Но Фёдор Григорьевич на часы больше не глядел, а о делах позабыл и вовсе.
Да, это была та самая трагедия, которая пленила его на одном из спектаклей кадет Шляхетного корпуса! Читая пьесу сейчас, он вспоминал и некоторые сцены, и реплики действующих лиц, и даже отдельные слова, особенно ему запавшие в душу.
Ах, как хорошо помнится ему тот день, когда, будучи в Петербурге, он впервые попал на представление «Синава и Трувора». Стоя за кулисами, он смотрел на игру кадет-актёров и чувствовал в душе такой восторг, какого не знавал никогда прежде. Всё ему пришлось по душе в этом спектакле — и сама пьеса, и игра кадет, и декорации, и великолепные костюмы. Но главное — и пьеса была из русской истории, и актёры представляли на русском языке! Он до сих пор помнит восхищение, охватившее его, когда он увидел в роли Синава Никиту Афанасьевича Бектова. Какие пламенные слова произносил Синав! Какое благородство чувств было в его движениях и осанке!