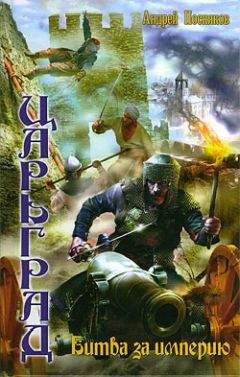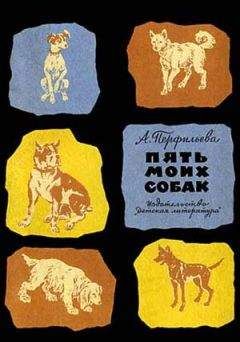Анастасия Перфильева - Во что бы то ни стало
— Тоже думаешь, мне слабо? — с вызовом крикнула она.
И Лена совершенно отчетливо увидела, что в глазах у нее стоят слезы.
Конечно, это была ерунда. Но Лена успела заметить в лице подруги и другое: то, что Динка яростно высмеивала в девчонках, называя «распускать миндальное масло». А это что-нибудь да значило…
— Ленка, ты спишь или нет?
Она испуганно подняла голову. Дина, Алешка и Вася стояли сзади и дружно гоготали. Пока она размышляла, Васька всю ее посыпал песком — плечи, платье, колени…
— Ой! — Лена спрыгнула, отряхнулась. — Вы что?
— Пошли до Крымского моста?
— Пошли!
— Давайте споем? «Те, кто силен не словами, а делом…» Или лучше…
— Нет, я сейчас скажу вам стихи. — Васька ехидно посмотрел на Алешку, потряс в воздухе пятерней. — Слушайте. Восхищайтесь.
Нараспев, подвывая, он прочел строфу. Стихи понравились, запомнились сразу. И четверо зашагали по набережной с бессмысленно счастливыми, на зависть прохожим, лицами, громко, во весь голос горланя:
Честное слово, кругом весна!
Мозг работает, тело годно!
Шестнадцать часов для труда!
Восемь для сна!
Ноль — свободных!
Кузьминишна поправила на плечах шаль и подняла руку к звонку.
Лена умоляюще посмотрела на нее. Заморгала и опустила корзинку с детдомовскими вещами — Марья Антоновна настояла, чтобы белье и лучшие платья она взяла с собой. Перед глазами все еще были сгрудившиеся в окнах, махавшие руками девочки, Динка, мальчишки… Марья Антоновна не хотела, чтобы родственники приезжали за Леной в детдом: зачем бередить зажившие раны у остальных воспитанников? И Кузьминишна сама взялась отвести ее к тетке.
— Ну, ну, не навек, чай, расстаемся, — сказала она непослушными губами и надавила звонок.
За дверью прошелестели шаги, она распахнулась. Кто-то подхватил Ленину корзинку, снимал с Кузьминишны шаль… Душистые руки обняли, повели по коридору с навощенным полом.
— Не бойся, голубчик, тебя никто, никто здесь не обидит!
Голос был ласковый, тоже душистый, и Лена обмякла. Ткнулась во что-то батистовое, близко просияла нарядная брошь, и пришлось зажмуриться: их ввели в светлую, хорошо обставленную комнату. Блестело высокое трюмо, раскинула острые листья пальма в зеленой кадушке.
В комнате никого не было. Только пушистая ангорская кошка спрыгнула с пианино, подошла и потерлась о Ленины ноги.
Немного спустя они уже сидели за круглым столом с белоснежной скатертью, Ольга Веньяминовна, Кузьминишна, Лена, а у двери стояла незаметно вошедшая худенькая, как подросток, девушка со смышленым лицом и узкими глазами. Кузьминишна, румяная от бьющего через тюлевые шторы солнца и горячего чая, держа дымившееся блюдце, говорила:
— Потому что сейчас у людей страха мало. Очень в себе уверенные, все знают! А жизнь пошла новая, разве в ней сразу разберешься? Я вон на старости лет и то курсы неграмотности посещаю. К примеру, женщин учат — равноправие. Равноправие равноправием, а того забывать нельзя, что у каждой свой стыд есть…
Ольга Веньяминовна и худенькая девушка слушали ее. Первая — с безмятежно-уверенным взглядом, вторая — робко-сочувственно. А Лена незаметно рассматривала ту, у которой теперь жить.
Ольга Веньяминовна была пышнотелая, крупная. Белые руки с длинными розовыми ногтями свободно лежали на крахмальной салфетке (такую же, горбом, салфетку у своей тарелки Лена, чтобы не испачкать, сдвинула в сторону и увидела: тетка тотчас же, небрежно скомкав свою, вытерла ею губы). Лицо у Ольги Веньяминовны было свежее, карие непроницаемые глаза, властный рот, умело уложенные волосы. Вся она была сытая, холеная, домашняя, так не похожая на занятых, торопливых воспитательниц!
— У меня их на руках сколько? — говорила Кузьминишна. — А поди ж ты, в люди вышли. Какие они люди, галчата! И в пятнадцать лет свои мозги есть, да больно кругом соблазну много. На каждом углу тарелки с радиом. Музыка в них, песни — это хорошо. А когда веру и попов ругают? Ну, попов ладно… А без веры может человек жить? Мне помирать скоро, как я туда без веры пойду? — Она подняла блестящие молодые глаза и посмотрела наверх.
— Разумеется, разумеется… — согласилась Ольга Веньяминовна. И, поймав Ленин изучающий взгляд, улыбнувшись ясно, спросила: — Я тебе еще чаю налью? С молоком или так?
— Мне так.
Ольга Веньяминовна гибким движением потянулась за сахарницей:
— На пасху, я слышала, у Пречистенских ворот во время заутрени просто что-то невероятное делалось! Пригнали грузовик, какой-то балаган, гармошка…
— Ой, мы смотреть ходили! — обрадовалась Лена. — Так интересно, смешно! Все в масках, вроде театра.
Кузьминишна строго глянула на нее и толкнула под столом ногой. Вошел Николай Николаевич. Он был в модном костюме, крахмальной рубашке. Небрежно поклонился Кузьминишне, потрепал по щеке Лену. Выпуклые его глаза смеялись.
— С приездом! — сказал он так звучно, что кошка, видно его любимица, с шумом прыгнула к нему с пианино. — Вернее, с приходом. Я буду звать тебя Аленушкой, согласна? Кстати, она похожа на васнецовскую, ты не находишь, Оленька? А вас как будто зовут Дарья?
— Меня звать Дарья Кузьминишна, — вежливо, но твердо поправила старушка.
— Ну-с, так чем же кончился ваш семейный совет?
И Николай Николаевич уселся в отодвинутое кресло рядом с Ольгой Веньяминовной и пышущим самоваром.
После этих слов Кузьминишна вся подобралась. Нет, и она не оставила бы Лену, не обговорив, что сулит ей будущее! И теперь ждала этого разговора с волнением.
— Когда Леночка будет жить здесь, надеюсь, вы тоже не забудете к нам дорогу? — подчеркнуто радушно обратилась к ней Ольга Веньяминовна.
Это понравилось старушке. С тревогой, заботой и великой любовью смотрела она на Лену.
— Приходить, пока силы есть, приду, — ответила благодарно. — И вы к нам Леночку отпускайте. Машенька, дочка моя, теперь на этом… — она запнулась, — на рабфаке учительствовать будет. Только жить где будем, еще не знаю.
— Скажи, Аленушка, — спросил вдруг Николай Николаевич, подкармливая ветчиной вскочившую на колени кошку, на что Кузьминишна посматривала с явным осуждением. — Что это за большеротая независимая особа появилась возле тебя в тот день, когда мы были в вашем так называемом институте?
— Это же Динка! Динка! Моя самая лучшая подруга! — закричала Лена, всплескивая руками, так что торчавшая из чашки ложка зазвенела, и Ольга Веньяминовна, вынув, бережно, положила ее на блюдце.
— Ого, я вижу, от одного упоминания о ней ты готова перебить у нас посуду! — засмеялся Николай Николаевич. — Но слово за тобой, Оленька.
Ольга Веньяминовна, казалось, не слышала его. Смотрела на расплескавшийся из Лениной чашки чай. А та, притихнув, смотрела в самовар, где, крошечные, отражались они все, только худенькой девушки не было: ома вышла так же незаметно, как и вошла.
— Я считаю… — будто очнувшись, сказала Ольга Веньяминовна. — Извините, вспомнила сейчас собственную молодость, вот и взгрустнулось… — Она улыбнулась одним ртом. — Летом Леночка поедет с нами на дачу. А с осени… У мужа есть связи, постараемся, минуя биржу труда, устроить ее на какое-нибудь подходящее место.
Кузьминишна молчала, думая о своем.
В людях, принимавших сейчас Лену в свою семью, был, как она надеялась, тот самый страх, пусть от прошлого, про который она говорила. А значит, было и понимание, как лучше поступить с Леной. Конечно, это было не то понимание, что у Марьи Антоновны, это Кузьминишна чувствовала безошибочно. Но, вверяя Лену нашедшимся родственникам, порядочным людям — в их порядочности она не хотела сомневаться, иначе не посоветовала бы дочери отдать девочку, — Кузьминишна тем самым доверяла и их знанию жизни. Пусть будет так, как они считают нужным.
— Дарья Кузьминишна, мне-то вы, надеюсь, по старой памяти позволите называть вас Дарьюшка? Пойдемте посмотрим Леночкину комнату! — быстро сказала Ольга Веньяминовна, вставая.
По-женски, чутьем, она угадала: сейчас лучше всего показать старушке, как они живут. Но в этом она оказалась правой лишь отчасти.
Когда Кузьминишна побывала в маленькой чистой комнате с шифоньером и узкой белой кроватью, возле которой уже стояла Ленина детдомовская корзинка; когда увидела нарядную спальню Ольги Веньяминовны, веселую кухню с кладовкой во много полок, ванную, где растапливала колонку худенькая девушка, — словом, все то, от чего давным-давно отвыкла, скитаясь в гражданку по Кубани и после хозяйничая в детдоме, но что когда-то в ее представлении составляло неотъемлемую сущность каждой «порядочной» семьи, Кузьминишна одновременно — успокоилась и насторожилась.