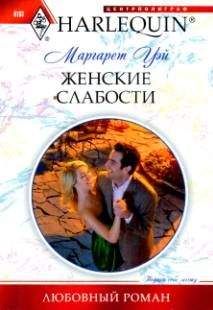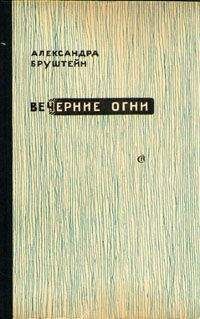Александра Бруштейн - Дорога уходит в даль...
Оказывается, ресторан, где служит Степан Антонович, переезжает на весну и лето в Городской ботанический сад. Томашова нанялась в ресторан судомойкой. При этом летнем ресторане есть каморка, где можно жить. Юльку будут с утра выносить в сад, и она будет до вечера на воздухе, на солнце, — «помнишь, твой отец говорил мамце, что мне это нужно, — я тогда ходить начну». Но осуществил все это, придумал, устроил, конечно, Степан Антонович.
— Там нам будет хорошо-о-о! — радуется Юлька. — Степан Антонович говорит: там будет у нас много чего кушать! Приходят люди в ресторан, обедают и не все съедают, а хлеб всегда остается и суп тоже… И знаешь, — шепчет мне Юлька, открывая в счастливой улыбке милые передние, зубки, надетые «набекрень», — мамця и Степан Антонович уже решили: они оженятся.
Но вот Вацек окончил укладку вещей. Как раз в эту минуту во двор, как всегда торопливо, почти вбегает Степан Антонович. Он берет Юльку на руки, сажает на тележку меж двух подушек, заботливо подтыкает со всех сторон одеяло, чтоб не дуло.
Вацек берется за ручки тележки…
— Н-ну!.. — говорит он решительно и делает страшное лицо, словно собирается кувырнуть тележку вместе с. Юлькой. Потом он запевает приятным голосом:
Сядем в почтовую
Карету скорей!
Гони, брат, живее
Серых лошадей!
Вацек катит «почтовую карету» к воротам на улицу. Между подушками видно счастливое, порозовевшее лицо Юльки. Она машет мне сковородкой.
— Приходи до нас! — кричит она. — В Ботанический сад приходи!
— Счастливо! — машет ей вслед Степан Антонович.
Томашова крепко обнимает меня:
— Скажи, девочка, отцу и тому, другому, молодому, что ходил за Юлькой, когда она была больна… Скажи им, что я, Томашова, — их вечная слуга!
Домой я прихожу невеселая. Вот я и осталась без друзей. Зоя и Рита?.. Об их вероломстве я и вспоминать не хочу. Это не настоящие друзья. А теперь уехала и Юлька…
Дома меня уже дожидается Павел Григорьевич, который пришел заниматься со мной.
Входя, я слышу, как папа говорит Павлу Григорьевичу:
— Смотрите, будьте осторожней. Я вас предупредил…
— Спасибо…
— Не будете вы осторожны, не будете! Знаю я вас! — вздыхает папа.
— А вот и ошиблись: буду!
При моем приходе разговор обрывается.
Папа просит, чтобы урок происходил у него в комнате, так как ему скучно лежать.
— Вот мы вас сейчас повеселим! — обещает Павел Григорьевич.
Ох и веселим же мы папу этим уроком! Вернее, я одна веселю его, потому что Павел Григорьевич только смотрит на меня в сильнейшем удивлении, словно видит меня первый раз в жизни!
Начинаем мы, как обычно, с арифметики. С этой наукой у меня всегда-то не слишком дружественные отношения, но сегодня… На вопросы я отвечаю или неверно, или невпопад. Я не могу решить ни одной самой пустой задачки, и все ответы на примеры у меня ошибочны. Павел Григорьевич наконец не выдерживает:
— Да что с ней сегодня? Какая муха ее укусила?
И тут, словно и вправду меня укусила какая-нибудь из тех противных мух, блестящих, зеленоватых или цвета мыльных пузырей, какие летают летом, я говорю Павлу Григорьевичу — и папе! — что мне совершенно ни к чему заниматься арифметикой, мне не нужна эта арифметика, я прекрасно проживу без всякой арифметики. То, что я собираюсь делать в жизни, не имеет никакого отношения к арифметике, со встречными поездами, с бассейнами и трубами, с купцами, которые купили семьдесят аршин сукна или восемь ящиков мыла…
— А можно у тебя спросить, — очень серьезно говорит папа, — что же это такое ты собираешься делать в жизни? Это не секрет?
— От мамы пока секрет: она взволнуется, заплачет. Ну, понимаешь, женщина… Но от тебя не секрет. И от Павла Григорьевича тоже не секрет. Я бы вам раньше сказала, да тут с утра были твои доктора.
— Так что же ты собираешься делать?
Я не смотрю ни на папу, ни на Павла Григорьевича. Я смотрю мимо них, в пустой угол комнаты, где нечего видеть. Перед моими глазами сверкает золотой султан и переливающееся блестками платье — среди львов и тигров.
— Я хочу, — и, пожалуйста, не отговаривайте меня, это не поможет! — я хочу быть укротительницей диких зверей… — Это я выпаливаю очень твердо.
Папа и Павел Григорьевич не переглядываются, не смеются.
Папа тихонько барабанит пальцами по одеялу.
— Так… А почему, собственно, тебе это хочется?
— Потому что укротительница смелая. Она — герой!
— Смелая? Да, конечно. Даже очень смелая, это я признаю. И восхищаюсь ее смелостью. И всякий признает и восхищается. Но герой? Нет, она не герой.
Я смотрю на папу пораженная — я не понимаю: что он, шутит?
— Укротительница зверей — не герой?
— Нет. Не герой.
— Ой, папа, что ты говоришь! Ты вошел бы в клетку со львами и тиграми?
— Нет. Не вошел бы.
Я торжествую:
— Вот видишь! А говоришь: она не герой! А сам не вошел бы! Значит, боишься?
— Конечно, боюсь. Разве я тебе сказал, что я такой же смелый человек, как эта укротительница? Я этого не говорил. Таких бесстрашных людей, может быть, только одного на тысячи и найдешь. Но ведь кому нужна эта смелость? Зачем укротительница три раза в день входит в клетку с хищниками? Если бы она, рискуя жизнью, спасла этим кого-нибудь — безоружного человека, ребенка, ну, хоть корову, что ли, — это было бы геройство! А так — бросать свое мужество на ветер, на потеху ротозеев… Ну подумай сама: в чем тут геройство?
Павел Григорьевич молчит, но я чувствую, что он тоже согласен с папой.
— Знаете что, друзья мои? — вдруг начинает папа. — Если уж зашел у нас этот разговор, то давайте поговорим о геройстве. Об этом нужно поговорить, нужно… Павел Григорьевич, бог с ней, с арифметикой! Она от нас не уйдет… Вы разрешаете занять урок под этот разговор?
Павел Григорьевич молча кивает.
— Так вот, пусть каждый из нас расскажет о каком-нибудь герое, которого он сам знал. Кто первый? Ты, Леночка?
В пылу разговора я и не заметила, как в комнату вошла мама и слушала все, что мы говорили. Она берет со своего столика небольшую фотографию в рамочке и подает ее мне. Я не понимаю, зачем мама мне это показывает: я отлично знаю эту фотографию и изображенного на ней военного, его грустные глаза и грудь, увешанную орденами и медалями. Под стеклом рамки фотография обклеена бледными, выцветшими засушенными фиалками.
— Знаешь, кто это? — спрашивает мама.
— Конечно! Это мой покойный дедушка…
— Да. И мой отец… — Мама любовно протирает стекло и рамочку. — Видишь, у него на груди четыре «Георгия» — «за храбрость»…
— Ты мне никогда не говорила…
— Думала: подрастешь — скажу.
— А за что дедушке дали это?
— Он был военный врач. Наградили его в турецкую кампанию — с турками мы тогда воевали… И в приказе военного командования было сказано: «Наградить штабс-лекаря (врачей тогда лекарями звали) Семена Михайловича Яблонкина за самоотверженную подачу помощи раненым под сильным огнем неприятеля». И так четыре раза — после четырех сражений — награждали моего папу, твоего дедушку!
— «Под сильным огнем неприятеля»? — переспрашиваю я. — Это что значит?
— А то, — поясняет папа, — неприятель палил из пушек, раненые падали, а дедушка твой не сидел поодаль в безопасности, не ждал, пока их принесут к нему. Он был хирург, и знал, что важно оказать раненому помощь как можно скорее. Он лез в самый огонь, выносил раненых из боя, перевязывал их тут же, на месте… Смелый был человек дедушка твой Семен Михайлович и герой: сотни жизней спас! Не о себе думал — о людях…
Проходит несколько секунд молчания. Потом я говорю, ни к кому не обращаясь:
— Я вчера руку растопленным сахаром прижгла… Я хотела Рите и Зое свою дружбу доказать… Это глупо, да?
— Очень, — подтверждает папа. — Павел Григорьевич, дорогой, поглядите, что у этой дурынды на руке.
Пока Павел Григорьевич снимает Юзефин бинт, очищает ранку и присыпает ее ксероформом (очень вонючее сухое лекарство!), я вспоминаю:
— Папа, а ты когда-нибудь видел героя?
— А как же! Вот недалеко вспоминать — три дня тому назад к нам в госпиталь обожженного человека привезли. Пожарного, топорника. Трех человек из горящего дома вынес. И тогда вдруг оказалось, что в запертой квартире осталось двое ребят. Дом уже весь пламенем охватило, вот-вот рухнет… Пожарный снова полез в дом, нашел детей — они почти уже задохлись. Выбраться с ними было трудно — внутренняя лестница уже обвалилась, — пожарный выбросил детей из окна, а внизу люди их на тюфяк подхватили. А вслед за детьми и пожарный выбросился. Очень тяжелые ожоги у него, не знаю, выживет ли… Вы к нему сегодня в госпитале заходили, Павел Григорьевич?
— Заходил, конечно. Немного получше ему, но положение очень тяжелое…