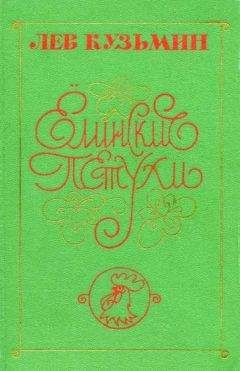Лидия Чарская - Том 02. Желанный царь
Дрогнул Салтыков, дрогнул Гонсевский, поляки… Как испуганные звери, толпою отпрянули они к дверям, выскользнули в сени… А страшное проклятие все еще неслось за ними вдогонку…
Это было в последний раз, когда Миша видел, хотя и издали, Гермогена.
И вскоре последнюю свою грамоту послал для Нижнего Новгорода Гермоген через Дионисия, настоятеля Троице-Сергиевской лавры.
Потом его не стало, поляки перестали давать пищу запертому в тайнике святителю, и патриарх Гермоген погиб мученической голодной смертью, без ропота, как истинный ревнитель веры православной.
***
А осада Кремля, все длилась… События сменялись событиями.
Теперь Москвою правили трое: Ляпунов, Трубецкой и Заруцкий. Но в войске намечавшиеся еще при самом начале осады распри теперь окончательно расстраивали дело спасения Москвы от поляков. Особенно казачество вело себя буйно и непристойно-дико.
Воспользовавшись ложным слухом, распущенным врагами Прокопия Ляпунова, геройски честного и благородного военачальника, казаки подняли бунт, во время которого убили на раде (сходке) Ляпунова. После его смерти еще больший раскол поднялся в войске. Многие стольники, дворяне и дети боярские разъехались по домам. Распустив большую часть земского ополчения, уехали и сами воеводы. Казаки с Заруцким разбрелись шайками по окрестностям и грабили все, что могли.
Сигизмунд, взявший Смоленск, послал в Польш привезенного к нему царя-пленника Василия Шуйского, доставленного сюда Жолкевским. Бывшего царя с братьями отослали в Варшаву, а затем заточили в Гостынский замок.
Беда за бедою грозили России. Шведы заняли Новгород. В Пскове появился новый самозванец. И, к довершению несчастий, страшный голод свирепствовал в Москве, где уже беспрепятственно хозяйничали поляки. Судьба запертых в Кремле бояр с их семействами вполне зависела от них. Казацкие полчища под Москвою поддерживали осаду, но под видом защиты грабили жителей Москвы и окрестных поселян. Наступила страшная пора для Руси…
Государство гибло… Русь умирала в эту пору лихолетия мучительной, медленной смертью, судорожной агонией последнего конца.
Глава III
Поздним осенним вечером, когда все спокойно спало на романовском подворье, в светелке боярышни Настасьи Никитичны еще теплилась восковая свеча.
Сама Настя что-то спешно перебирала в тяжелой скрыне. Вот вынула она оттуда темный смирный летник, скромную телогрею и совсем простой, без всяких узоров, девичий венец.
Проворно сбрасывала с себя обычный свой наряд боярышня и заменяла его простенькими одеждами, добытыми из скрыни. Затем, одевшись, повязала голову темным платком, низко опустив его на самые брови.
Помедлив посреди горницы, оглянув, словно на прощанье, родную светелку, где незаметно и весело в семье брата до шестнадцати лет протекало ее детство, Настя подошла к божнице и рухнула перед ней на колени.
— Господи! Творец-Вседержитель! — шептала девушка. — Прими жертву мою!.. Огради от горя-злосчастья несчастную семью нашу!.. Верни брата Филарета под сень родного гнезда… Помоги сестре Марфе вырастить и поднять Михаила… Дай им счастье, Господи, ценою моей жизни, ценою моей радости утерянной, дай!.. Прими жертву, Господи, от недостойной рабы Твоей, Творец-Вседержитель, Господь Всесильный. Отведи карающую десницу Свою от дома сего! К Тебе прибегаю. Возьми жизнь мою, Владыка Небесный, и пошли им благо за это, моим родичам незабвенным, братьям, сестрам, отроку Михаилу, всем им, всем пособи, Вседержитель-Господь!
С этими словами замерла на мгновенье, распростершись перед киотом, Настя. Не в первый раз так молилась она.
После смерти Тани и ее молодого мужа новое известие окончательно сразило романовскую семью. Плен Филарета в Мариенбурге, оказалось, был не временный, а постоянный. О возвращении старца никто не смел и помышлять. Каким-то чудом доставленная грамота оттуда рушила последние надежды старицы Марфы и ее семьи. И вот, после всех этих невзгод, новые мысли все чаще и чаще стали приходить в голову Насти. В ее молодом, любвеобильном сердечке появилось новое самоотверженное желание — желание самоотречения, подвига, жертвы, на которую она решила принести себя… В душе девушки прочно воцарился образ молодого князя Кофырева-Ростовского. Этой любовью и надеждою на скорое с ним соединение жила все эти долгие десять лет ее душа. Но не хватало силы у них обоих строить свое счастье тогда, когда гибла Русь, когда вместе с ее несчастиями горе то и дело посещало романовский дом. И оба, и князь, и девушка, подавляли в себе нетерпение, ожидая лучших дней. Последнее время, когда князь, участвовавший в земском ополчении, отсутствовал, Настины мысли приняли совсем иное направление.
Что, если она отречется от счастливого будущего и ясных надежд? Что, если спрячет под иноческий клобук голову, черной власяницей оденет тело и будет денно и нощно молить Бога о милости здесь же, в ближней, пока длится осада Кремля, обители, а потом в родном Ипатьевском монастыре, подаренном Самозванцем инокине Марфе вместе с возвращенными костромскими вотчинами? Примет ли ее жертву Господь? Отвратит ли от близких ей, Насте, людей свою грозную десницу?
И она решила. Решила стать вечной молитвенницей за свою семью, до самой могилы, до самой смерти.
Мамушка Кондратьевна была в заговоре с Настей. Ей поручено было тайно снестись с игуменьей ближнего монастыря, тайком от старицы Марфы вести переговоры. Та же мамушка принесла ответ Насте, что ныне ждут, как желанную гостью, неведомую боярышню для пострига в обитель к ночи… Обливаясь слезами, мамушка передала накануне эту весть Насте.
Назавтра же утром назначено было и постриженье. Медлить было нельзя. И Настя собиралась с лихорадочной поспешностью, боясь, чтобы кто-либо не заприметил ее ухода. Помолившись Богу, она вернулась к комоду.
Вот вынула она оттуда сверкающие драгоценности, даренные ей в разное время старшим братом и невесткою… Вот подарки других братьев… Их отнесет она вместо вклада в обитель… А вот и дар жениха, золотой перстенек с ценным алмазом…
Девушка медленно поднесла его к губам.
Вмиг стал перед нею образ молодого красивого князя… Зазвучали в ушах его ласковые речи… Знакомые, милые глаза желанного снова, как живые, заглянули в душу. Огромной мучительной жалостью и любовью к нему дрогнуло сердце Насти…
Девушка едва устояла на ногах и только тесно прижала к губам перстень.
— Прости, Никитушка, желанный! Не сетуй, не кляни меня на решении моем, — прошептала она чуть слышно, — видит Бог, люблю тебя я, а только клобук иноческий да молитвы мои грешные ради близких моих нужнее мне брачного венца…
И, уже почти спокойная, она обернулась на скрип отворяемой двери.
Вошла мамушка с залитым слезами лицом.
— Боярышня! Родненькая, желанненькая! Опомнись, пока не прошло время! Не покидай ты нас, боярышня, золотая, болезная моя! — неожиданно рухнув на колени перед Настей, зашептала Кондратьевна, обливаясь новыми слезами.
— Тише, мамушка, нишкни! Не приведи Господь, услышит старица-сестрица либо Мишу разбудишь невзначай. Никто знать не должен, на што я иду… Отговаривать станут, просить, кручиниться, плакать, — трепетным голосом отвечала ей Настя.
— Лебедушка наша! Може, осталась бы с нами лучше, — заикнулась было, всхлипывая, мама.
— Нет… Нет… Господь с тобою!.. Не смущай. Зарок я дала… Великую клятву себя посвятить Богу, вымолить долю брату плененному, ради инокини-сестрицы, ради Миши… А вот это, мамушка, возьми и князю Никите Кофыреву-Ростовскому передай. Скажи ему, что в недобрый час, знать, повстречали мы друг друга. И что до последнего часа своего буду его помнить всю мою жизнь, — закончила чуть слышно свою речь Настя, вынула из кармана заветный перстень и передала его маме. Потом тихонько проскользнула из горницы в сени, сделав знак Кондратьевне следовать за нею.
Осторожно, на цыпочках миновав дверь опочивальни невестки, затаив дыханье, она на миг заглянула в горницу к Мише. Старый Сергеич, крепко умаявшись, храпел на сундуке в углу. Миша, раскинув руки над кудрявой головою, безмятежно и сладко спал на своей мягкой постели. Настя на минуту склонилась над ним и впилась в лицо племянника прощальным взглядом.
— Господь с тобою, родной мой! Не уберегли Танюшку болезную, авось тебя убережем. Може, дойдут мои грешные молитвы до Бога, може, хоть ты увидишь счастье, племянник любимый мой, — прошептала она.
Еще ниже склонилась над кроватью, осенила крестом кудрявую голову мальчика и нежно поцеловала его в лоб.
И снова легкой тенью скользнула за дверь опочивальни. За нею мама… Темная осенняя ночь поглотила обеих женщин.
***
В ту же ночь мамушка Кондратьевна, проводив Настю со слезами до ворот женской обители и оставив ее там на руках у игуменьи, возвратилась назад.