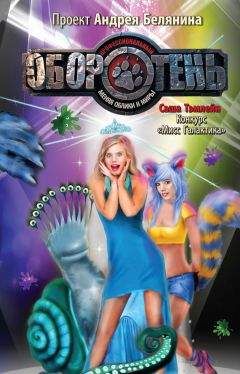Сусанна Георгиевская - Лгунья
Не рассусоливай, а шагай, шагай…
Рубчатый след от недавно прошедшего грузовика — коричневые полосы на белом накате белого снега.
Вдали мигает желтая точка. Огонь!
…Все больше, больше желтого света. Близко, совсем уж близко человечье жилье. Вырисовываются крыши строений — большие, продолговатые. Это казармы. А вот — небольшой домишко. Из трубы его валит дым. Пахнет дымом и хлебом. Хлебопекарня. Читальня… На полках стоят книги, их видно через окно.
Кружевная, воздушная, поднимается вверх не то клеть какой-то лестницы, не то наскоро сбитая пожарная каланча. Это — дозор. На самом верху, если вскинуть голову, — крошечный дом-скворешня. Там — солдат: глядит вперед молодыми своими глазами. Один. На ветру.
Рядом с казармами — небольшой дом — единственный, где зашторены окна.
Крыльцо. На крыльце веник. Рядом с веником — ведра. Дом как дом, такие бывают в деревнях. Крылечко свежеокрашено и освещено.
«Сюда!» — решает Кира и поднимается по ступенькам. Тщательно сметает она метлою снег со своих сапожек. Сейчас протянет руку и постучит.
Дверь распахивается. На пороге женщина в пуховом платке. Обыкновенная женщина. Русская. В валенках.
От этих валенок Кире делается теплей.
— Здравствуйте, — говорит Кира. — Я к командиру. К главному…
— Он на политзанятиях, — отвечает женщина. — А ты по какому делу? Давай заходи…
Кира заходит в сени, разматывает платок, снимает шубейку.
Комната. Нет, это вовсе, вовсе не комната… Это — Россия.
Большая никелированная кровать, обеденный стол, буфет с посудой, половики и половички… А над столом такая же точно лампа, которая дома у мамы и папы. Лампа под розовым абажуром!
— Садись. Ты, видно, крепко озябла? Может, чаю или горячей картошки? Я пекла блины. Может, хочешь блинка? Съешь блинка! Да как ты нашла нашу часть? Или кто тебя проводил?
— Никто. И я совсем не такая маленькая, я уже школу окончила. Из Москвы приехала — и нашла.
— Из Москвы? — оживившись, говорит женщина. — Там наших трое ребят. Скоро приедут сюда, на каникулы… Такая тоска, такая тоска по детям — сказать не могу.
Женщина кутается в платок, вздыхает, скрещивает ноги в фетровых валенках… Подперла кулаком подбородок, задумалась, пригорюнилась.
— Значит, ты из самой Москвы?.. А чего там нового? Какие в Москве погоды? Я им, понимаешь, связала шарфики. Только, может, не надо?.. Поверишь ли — дни считаю… Как они там?! Здоровы ли, сыты ли… Ты этого не понимаешь, куда там — еще мала…
— У меня братишка. Я все понимаю.
Низко опустив голову, Кира не смотрит на женщину. Губы ее дрожат.
— Что с тобой? — говорит хозяйка. — Ты вроде бы не в себе, я сразу заметила. Может, обидел кто?.. Люди, знаешь, они безо всякой милости, без понятия. Да ты успокойся, погрейся. Садись к печи.
— Не хочу! Я боюсь печей…
— С чего бы?..
— Так. Просто так… Я к майору Дятлову, посоветоваться. Я, я… А он хороший человек?
— Кто?
— Майор Дятлов.
— Да как я тебе про родного мужа скажу? Сразу видно — что ты дитя… Мужик как будто бы ничего… Рубашку снимет для друга. Грех сказать — хороший, очень даже, можно сказать, простой, порядочный… Жену уважает. Детей жалеет… Чего ж еще?
— Скажите, пожалуйста, а разве это так много, что муж тебя уважает?!. Я б, например, хотела, чтобы меня любили…
— Любовь, она, детка, не вечная… Да и не солидно вроде бы в нашем возрасте, чтоб он меня на руках носил.
— А у французов любовь — она вечная… Один французский поэт, ну, в общем — писатель, сочинил такую песню своей жене, что ее поет весь Париж. Называется: «Ноги моей Жаннеты». А Жаннете — семьдесят лет.
— Поди ты! И смех, и грех. Да я б со стыда сгорела… Ох уж эти французы!
— У меня, — не поднимая глаз, говорит Кира, — здесь служит… Вобщем один знакомый. Костырик Всеволод. Может быть, видели? Он немного постарше других ребят…
— Да как тебе, детка, сказать, может и видела, да не знаю, кто из них Пров, кто Петров, а который Костырик… Ты бы хотела с ним повидаться? Пришла попросить майора об увольнительной? Он даст, он даст… Можешь не сомневаться… Все же в экую даль человек приехал… Из самой Москвы! Дорога не близкая.
— Понимаете, все так вышло нехорошо, — сжав кулаки, говорит Кира. — Я даже не знаю, надо ли мне… Домой бы!.. Мне бы только понять… Иначе… я, я… утоплюсь! Мне стыдно папе в глаза взглянуть. И маме. И девочкам…
— Да это что же такое?! — сейчас же приняв ее сторону, спрашивает у судьбы жена командира. — Да как же такое можно? Да где же стыд у нонешних молодых людей? Это, детка, они даже очень свободно… Это мода теперь такая, чтоб все ни во что!.. И любовь, и может, там какое серьезное объяснение было… Да как же так? Да какого рожна ему надобно?.. Красивая, из дому родительского… Да ты не плачь, ты не плачь, ты своей гордости не роняй. Пусть оглянется — много ли, можно сказать, на свете таких девчонок, чтобы со средним образованием и чтобы скромная и культурная?.. Ты какого года?
Кира ответила.
— Да это ж где берется у людей совесть? Девочка, ну прямо, можно сказать, дитя! Да ты успокойся. Он еще локти будет кусать. Не убивайся!.. Все у тебя впереди, детка!
— Нет!.. Нет!..
— Полно!.. Ах, чтобы они сгорели. Все! До единого. Совместно с моим мужиком.
Дверь скрипнула. Послышался стук сапог. В комнату вошел пэжилой человек в военном. (Тот, кому жена пожелала сгореть!) Лицо его было простовато, рассеянно. Взглянул на жену, перевел глаза на сидевшую рядом с женой незнакомую девушку. Не сказал «здравствуйте». Спросил:
— Что случилось, Анфиса?! Дети здоровы?!
— Твои-то здоровы, — сказала Анфиса, — а вот другие…
Кира встала и протянула майору руку.
— Зиновьева. Из Москвы. Извините за беспокойство.
— Да какое может быть беспокойство?! Сидите, сидите… Если ко мне, так пожалуйста. Я — обязан. Мои солдаты.
Он присел к столу, и стало еще заметнее, что славное лицо его как бы даже потрясено добротой.
— Я вас слушаю, товарищ Зиновьева…
Лицо Киры приняло гордое, злое и высокомерное выражение.
— Не знаю, как рассказать, — начала она. И принялась теребить носовой платок… — Мой папа — рабочий Зиновьев. Мастер. Нас — пятеро… Севка Костырик ему помогал… И я… И я…
— Да чего уж там!.. Дело, как говорится, честное. Молодое.
— Нет, нечестное. Я ему сделала много зла. И… и приехала с ним повидаться.
— Да… Можно сказать — положеньице, — с состраданием вздохнул майор. И встав от стола, тяжело зашагал по комнате. — Я Костырика знаю. Отчислен из института… но при военном деле — рекомендация неплохая. Даже можно сказать — хорошая. Неплохой строитель. Большой работяга. С инициативой. По чести скажу — плохого за ним не видел. Одно хорошее. А уж я ли их не перевидал?! Молчаливый, знаете ли… Но быть может, каждый на его месте… А так — старательный… И общественник. Оформил нам стенгазету. И я бы сказал — хорошо оформил… Два раза отказывался от увольнительной Я с ним беседовал — как же так?.. Парень он неплохой и мне, не таю, внушил уважение… Не знаю, конечно, подробностей, но уж больно сурово как-то… Я переписываюсь с отцом. Неплохой человек — рабочий. А как там с той женщиной… вышло — не знаю А он… Он что? Он, конечно, того… Ведь молод…
— Вы всегда один за другого, — сказала жена. — А что человек… что девушка… А если бы с нашей Настей…
И махнув рукою, вышла на кухню.
— Та женщина, товарищ майор, — это я!
— Уж полно…
— Правда — я. Поэтому я приехала… Я люблю его. Майор зашагал быстрей. Из кухни вернулась жена, поставила на стол две тарелки, булочницу и хлеб.
— Ну что ж!.. Как вас величать-то? Кирой?.. Так вот: не удивительно, что он не хотел с вами говорить… Вот так… Не посетуйте за прямоту. Я бы тоже на его месте… Только вот что: возможно, не хватило бы, так сказать; у меня характера… Я бы знаете ли, пожалел… А он человек характерный. Волевой парень. Кира молчала, сидела, опустив голову.
— Товарищ майор, простите, я, наверно, не все понимаю… Не понимаю степени своей вины. Ведь не волоком же я его волокла… Да и откуда мне было знать, что можно, чего нельзя? Я не военная, не военнообязанная. Да и что было-то? Он меня, конечно, в ту ночь два раза поцеловал… А во второй раз… Он на меня сердился. А я, как глухая или ослепшая… Ведь он самый близкий мне человек! И я тогда совсем, совсем другая была… Не такая, как нынче… Я горя не видела. А теперь…
— Видишь ли, Кира, дело не в том, сколько раз он тебя целовал, а в нарушении воинской дисциплины, долга!.. Как это ты его довела до оплеухи?.. И зачем ты ходила к нему в институт, да еще, говорят, накрашенная? Право — и смех, и грех.
— Товарищ майор, все меня презирают. Все! Отец деньги прислал, а не пишет… Я болела шестнадцать дней… Мама не пишет. Зачем я за ним бежала? Зачем, зачем?.. Как жить? Научите. Я себе не прощу. Раньше мальчишки за мной, за мной…