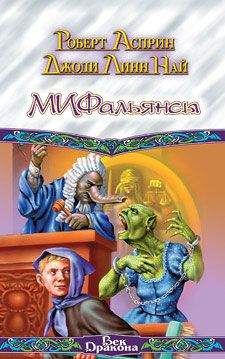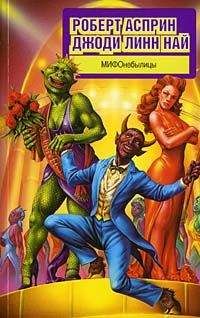Фрида Вигдорова - Дорога в жизнь
Григорий Лучинкин».
Вот это человек! Никто его не просил узнавать насчет пионерского отряда – сам догадался. Сам понял, как нам нужна их дружба, как бы хорошо нам увидеться вновь!
Лето шло нам навстречу широким шагом. Наш дом вместе с просторной поляной оказался точно в настоящем лесу: парк был густой, зеленая стена окружала нас со всех сторон, да еще за ним неподалеку стояла березовая роща. В марте безлистная, продрогшая, она сливалась с серым, туманным небом, и даже глядеть было холодно на белые, зябкие стволы. А сейчас так ярки и праздничны стали березы – кудрявые, веселые, так ослепительно, до серебряного блеска, чиста гладкая кора! И от этого разогретая, почти уже летняя синева неба кажется еще гуще и глубже.
У входа в детский дом высилась теперь зеленая арка: в двух ящиках по обе стороны входа были воткнуты высокие тычины, концы их загнуты навстречу друг другу и переплетены ветками. Посаженные в ящиках хмель и дикий виноград отлично принялись и обвились вокруг тычин. Получилось нарядно и весело. Мачта, в канун Мая выкрашенная в белый цвет и обвитая кумачовыми полосами, тоже выглядела празднично.
На Первое мая – это была мысль Алексея Саввича – мы пригласили к себе гостей из колхоза имени Ленина. Пришел и сам председатель – маленького роста, немного кособокий; лицо его никак не вязалось с такой слабой, хилой фигурой: оно было решительное, умное – лицо хозяина, который умеет приказать и не допускает мысли, что ему могут не подчиниться.
Я уже немного знал о нем. Он был рабочий – один из двадцати пяти тысяч, посланных партией на руководство колхозами. «Поначалу ржи от пшеницы отличить не мог, – говорил мне про него один из колхозников. – Но, знаете, виду не показывал. Бывало и бровью не поведет. Очень быстро все превзошел, теперь у него еще иному деревенскому поучиться. А машину любую знает, как свои пять пальцев, – он сам с тракторного. Башковитый мужик. У нас здесь, знаете, никакого головокруженья не было, ничего такого. Не перегибали. И птицу не обобществляли и жилые постройки не трогали. И все – добровольно. Сначала вступали осторожно, а потом видим – по-хозяйски дело налаживается, и пошли и пошли. Он у нас, председатель, на съезде колхозников-ударников был в феврале. Сталина слышал». Слава об этом человеке шла хорошая – толковый хозяин, строгий и справедливый. Может, на первых порах он и вправду не отличал пшеничного колоса от ржаного, но, видимо, знал толк в людях и умел учиться.
– Будем знакомы: Соколов, – сказал он мне. – Любопытно взглянуть на вашу жизнь. Ваши тут всё по нашим кладовым шныряли, а теперь будто не слышно?
– Надеюсь, и не услышите.
– Это очень хорошо. Между прочим, не возьмет ли ваша мастерская заказ у нас – мебель для школы? Мы вторую школу строим. Совхоз рядом, машинно-тракторная станция, политотдел – народу много, и у всех дети. Не знаю, как и двумя-то школами обойдемся. А еще я замышляю – неплохо бы и техникум в недалеком времени завести. Сельскохозяйственный, скажем, или зоотехнический…
– Вот тут и нас в долю возьмите! – сказал я.
– Что ж, можно. А пока суд да дело – нам парты нужны, классные доски. Вы, говорят, с этим справляетесь. В долгу не останемся. Вы зря к нам не обратились, мы бы вам и огород вспахали. И в кино милости прошу – у нас сегодня «Дочь партизана».
– Спасибо!
– А еще, я смотрю, у вас бычок без дела стоит. Вроде бы он лишний у вас? И душ хорош. Нам бы такой при школе не помешал…
Это Алексей Саввич и Сергей изобрели душ: сколотили вышку, поставили на нее бочку, внизу бочки проделали отверстие, плотно закрывавшееся втулкой. К бочке подвели желоб, на конце желоба подвесили ведро, дно которого изрешетили множеством мелких дырочек. Душ получился самый настоящий. Позже, в жару, мальчишки наслаждались им бесконечно, визжа и звонко хлопая друг друга по мокрым, блестящим спинам. Недалеко была и река, но душ все равно оставался любимым удовольствием, и работал он исправно: дежурные никогда не забывали наполнить бочку водой.
Мы неустанно трудились над своей спортивной площадкой, все больше и больше ее совершенствовали. Беговую дорожку проложили вдоль левой границы участка – длина ее была сто метров, ширина – пять. Кроме того, для бега расчистили прямую и ровную тропинку в парке. Не забыли и яму для прыжков и площадку для метания диска и гранаты. Украшали, строили, придумывали без устали.
– Эти-то приедут – ну, скажут, здорово это вы устроили! – слышу я.
– Приедут они, держи карман шире!
– Да ты что, не слыхал? Семен же Афанасьевич говорил – приедут! И еще военная игра будет!
– Нужны мы им, как же…
– А вот провалиться мне – приедут! Помнят, думают – хорошо!
25. ЧТО ТАКОЕ СВОБОДА?
Уже прозвонил звонок к обеду, братья Стекловы понесли последние носилки с землей, только я и Репин еще замешкались на площадке со своими лопатами: хочется докончить, подровнять край.
– Семен Афанасьевич, – неожиданно говорит Андрей, – вы кого из ребят больше всех любите?
– Удивляешь ты меня, Репин! Точно барышня. Ты бы еще на ромашке погадал: любит – не любит, плюнет – поцелует…
– Нет, я вас серьезно спрашиваю.
– А я серьезно отвечаю. Вот рука, вот пальцы – какой палец я больше люблю? Мне все нужны. И если палец заболел, нарывает – все равно нужен. Буду лечить, чтоб работал.
– Но если бы я ушел, вы бы не так огорчались, как из-за Короля, ведь правда?
– Я за тебя так же отвечаю, как за Короля.
Репин молчит, сдвинув брови, думает о чем-то, потом, словно решившись, говорит самым безразличным тоном:
– А я его недавно видел.
Я роняю лопату:
– Где?!
Он пристально смотрит на меня:
– Вот видите, я же говорил… Я пошутил, Семен Афанасьевич, нигде я его не видел.
Мне досадно, что я так вскинулся, досадно, что бросил лопату.
– Шабаш, – говорю я Сергею и Павлуше, когда они возвращаются с пустыми носилками. – Мойте руки – и обедать!
…Глаза Репина провожают меня неотступно. Куда бы я ни пошел, что бы ни делал, я чувствую на себе его взгляд. Смотрит – и думает, примеривает, решает: уйти или остаться? Остаться или уйти? Уйти мешает самолюбие. Мешает, пожалуй, интерес к тому, что здесь делается. И еще: он хочет, чтоб я думал о нем хорошо. Ему это нужно. Не знаю зачем, но знаю: нужно.
Однажды он встретил меня на полдороге от станции, когда я возвращался из Ленинграда.
– Ты что здесь делаешь?
– Вас встречаю.
– Тебя отпустил дежурный командир?
– Сегодня Колышкин дежурит.
Это означало: не у Колышкина же мне спрашиваться.
– Ну, пошли.
– Давайте ваш портфель.
– Мне не тяжело. А вот этот сверток, пожалуй, возьми. Только осторожно, не изомни – здесь листы ватмана для газеты.
Шагаем. Деревья шумят на ветру. Видно, к ночи будет дождь.
– Я давно хотел вас спросить: вы очень рассердились, когда я при пионерах предложил спеть «Позабыт-позаброшен»?
– Рассердился? Нет. Чего ж тут было сердиться? Всем известно, что у нас дом, где живут бывшие беспризорные. А у беспризорных любимая песня «Позабыт-позаброшен». Я не рассердился, а… как бы тебе сказать… Бывает, что человек, сам того не желая, скажет о себе такое, чего и не собирался говорить. Вот я и узнал о тебе в тот раз кое-что новое, узнал больше, чем знал прежде.
– Плохое?
– Узнал, что сидит в тебе человек, которому невесело, когда другим хорошо. Человек, который любит испортить другим настроение, нарушить добрый час.
– А зачем Король, когда уходил из детдома, взял горн? – без паузы сказал он, словно это было прямым ответом мне.
Я чуть было не остановился, но пересилил себя.
– Ты и в самом деле веришь, что Король взял горн? – спросил я ровным голосом.
– А вы разве думаете иначе?
– Убежден.
– Куда же тогда девался горн? Не улетел он, в самом-то деле!
– Не знаю. Не знаю, что именно с ним случилось, но знаю – Королев его взять не мог.
– Вы думаете, он никогда не воровал?
– Я над этим не думал и думать не хочу. Мне неинтересно, что и как было в жизни Короля до того, как я его узнал. А узнал я его в марте. Он помог всем нам, когда здесь было очень трудно и очень плохо. Помог не раздумывая, не приценяясь, от всего сердца.
– А почему он ушел?
– Может быть, потому, что маленькая, мелкая обида оказалась для него важнее большого, настоящего дела.
– Значит, он тоже приценялся.
– Почему «тоже»? Кого еще ты имеешь в виду?
– Никого. Я так.
А вот и дождь. Он зарядил раньше, чем я думал, – мелкий, скучный дождик. Но Андрей не позволил себе ни поежиться, ни прибавить шагу. Он только молча на ходу стянул с себя рубашку и завернул в нее трубку ватманской бумаги. Ладно, будем делать вид, что ничего не произошло. Чувствуя, как за шиворот пробираются первые холодные струи, я спокойно продолжаю разговор:
– Так? Ну вот. А может быть, он ушел сгоряча и сейчас жалеет об этом. И самолюбие мешает ему вернуться.