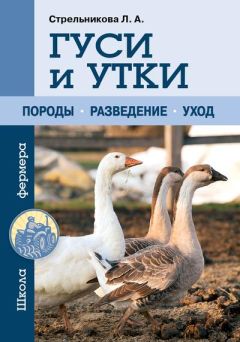Константин Курбатов - Волшебная гайка
— Ага, — согласился Гриша, — тебе, кажется, и впрямь теперь только про себя кричать. И бежать только про себя, не отлепляя от земли пуза.
— Зря ты так говоришь, Григорий, — тихо обиделся Иван. — Я еще как побегу. Очень хочется побежать, чтобы быстрее согреться.
— Согреешься, согреешься, — сказал Гриша. — Не торопись. А пока давай, пращур, окопчик дальше долбать. Что же ты, пентюха, такую мелкую сковородку выскреб? Нет на тебя, дурня, хорошего старшины. Живо бы научил окапываться, для твоей же солдатской пользы.
Лопата у Ивана ходила не то что слабо, а какими-то вовсе неуклюжими зигзагами, словно у него намертво застыла смазка в суставах. А как же бежать с такой смазкой?
Наша артиллерия ударила столь дружно и оглушительно, что дрогнула и пошла ходуном земля. У Гриши с Иваном враз заложило уши. Кричи не кричи, ни шиша не слышно. Говорили, ударят две тысячи орудий и минометов. Сколько это — две тысячи? У Гриши на большие цифры не хватало воображения. Но тут немного представил — по грохоту, который вспорол ночную тишину, по сотрясению земли, по кустам взрывов с огнем и дымом, что зацвели на том берегу, по вспыхнувшим там один за другим пожарам.
И сразу сделалось вроде теплее, радостнее. В душе нарастало нетерпение, сочилось живой силой к ногам, к главным твоим сейчас спасителям. Да и Иван, кажись, чуток отошел, приготовил к атаке автомат, подвигал, пробуя ноги, валенками.
Но долго еще пришлось ждать друзьям, пока перепахало снарядами и минами стылую землю на том берегу, все три линии траншей и бесчисленных проволочных заграждений. Остался ли там кто жив после такого перчика? Гриша знал — остались. Хватит, кому на курки нажимать да снаряды подавать. Хватит, кому целиться в него, в Гришу.
А как стихло, дернулся в своем окопчике-сковороде Иван Володин, вскочить хотел. Но Гриша его назад прижал.
— Торопишься, паря. Скорость где нужна? Точно: при ловле блох. Забыл сигнал к атаке? Общий залп «катюш» и музыка.
«Катюши» вспороли небо с лихим разбойничьим посвистом. Отсвистались, и тут же грянула где-то совсем рядом, за спинами медь оркестра. Усиленная динамиками, в морозной ночи, после орудийного воя и грохота, она показалась особенно странной в своей неожиданности. И сам оркестр, и та мелодия, которую привыкли обычно слушать совсем в иной обстановке.
Это есть наш последний
И решительный бой.
С Интернационалом
Воспрянет род людской!
Вот какую музыку грянул сводный духовой оркестр.
А Иван с Григорием уже бежали. Им некогда было подумать о неожиданности мелодии. Неуклюже разгоняя застывшие тела, проваливаясь в снег, падая и снова поднимаясь, бежали они. Иван впереди. Григорий чуть сзади. Чтобы на всякий случай подстраховать друга-товарища, дать ему как следует разбежаться. И с боков тоже уже бежали бойцы.
Бежали густо, быстро и молча.
И высветлило ракетами реку — каждую снежинку-искорку видно. И запели пули, впарываясь в снег, зачирикали воробьями, пролетая рядом. Заухали, зачастили взрывы. Дрогнул лед. Ударило столбами воды. С ледяным крошевом, со стальными сверчками.
Ноги у Гриши разгорелись, заработали сами собой. В ушах под ушанкой кровь застучала. А Иван-то чешет! Ну, чешет парень. Таким ходом не только через реку, до самого Берлина разом домчишь.
Пляшет берег в глазах, качается. Искрят на берегу красные огоньки. Густо стреляют, сволочи, часто. Только все мимо да мимо, любезные. Вот погодь, Фриц, добегу, обучу тебя, как на нашенском русском морозе воевать нужно. Вот погодь! Вот! Дай с глазу на глаз объясниться, втолковать тебе кой-какие понятия. Дай!
В висках кровь бушует, ударяет в такт с духовым оркестром. Мелодия сама собой в голове в знакомые слова складывается:
Никто не даст нам избавленья —
Ни бог, ни царь и не герой,
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой.
Лихо наяривают музыканты. Ой, лихо! В тарелки, в барабаны, в звонкие трубы.
Стой!
А где же Иван?
Совсем позабыл Гриша в запале про своего фронтового друга-товарища.
Оглянулся, а тот лежит.
Ноги в беге распахнуты, правым плечом в снег вбит.
— Ваня! Вол!
Кинулся назад, крутанул друга на спину. А у того уже и глаза завело. Ни кровинки нигде. Только на груди, на полушубке, малая дырочка.
— Ванюша! Что же ты…
Молчит друг, не отвечает. Лишь чуть заметно шевелит уже синеющими губами.
Рванул Гриша тесемки у себя под подбородком, закинул ухо ушанки, приник к остывающим губам. И не слово услышал, шелест, последний выдох:
— Ура…
Салют самому себе
Другу Ю. Смирнову
Над заснеженными сопками и озерами, над гранитными валунами застыла сплошная грязно-серая облачность. Если посмотреть на нее сверху, пробив насквозь, она могла напомнить бесконечное ватное одеяло, из которого во все стороны торчат клочья ваты. Но это — если сверху. А мы шли внизу. И потому над кабиной висела грязная муть, а под крылом тянулась измятая горбами сопок пустыня, засыпанная гранитными валунами и припорошенная снегом.
Но вот на кромке серовато-белой пустыни вдруг затемнела ровная полоска. Кольский залив. Полоса быстро приближалась, ширилась, уходила далеко за скалы в незамерзающее Баренцево море. Наверное, залив потому каждый раз открывался мне «вдруг», что мы, как правило, выскакивали к нему на малой высоте. Это лишь с больших высот земля представляется медленной и спокойной, а на бреющем она всегда неожиданна и стремительна.
Мы шли двумя парами. Я — ведомым у старшего лейтенанта Андрея Мясоедова, мой друг Кулагин — у старшего лейтенанта Чистякова.
Отодвинулись назад и матово стерлись в облачной дымке заснеженные берега. Под нами плыла черная, слегка прикрытая жидкой мутью тумана, вода. Ледяная, мрачная. Белый берег и черная вода. Неуютно, зябко. И поэтому, наверное, в тесной кабине «Яка» казалось особенно тепло и совсем как дома.
Мерно пел мотор, словно успокаивая своей хорошо отлаженной, надежной музыкой. Чуть зябли ноги в меховых унтах. Я надел в полет и шерстяные носки, и унтята. А ноги все равно мерзли. В кабине поддувало откуда-то с пола.
Носки мне связала мама. В детстве я никогда не видел, чтобы она что-нибудь вязала. А тут специально для меня связала носки. «Там очень холодно, на Севере, сынуля». Я для нее все еще маленький. Ехал из училища, чувствовал себя совсем взрослым. Попал домой — здрасте, опять ребенок. А может, я потому для мамы все еще совсем малыш, что не стало папы? Потеряв на фронте одного, она особенно боится потерять и второго, последнего. Ведь мама отлично понимает, что такое летчик-истребитель. Вот и связала носки из дырявого папиного свитера. Распустила свитер и связала носки. «Хочу, чтобы ты чаще вспоминал меня и папу». Удивительно — папы нету, мама где-то очень далеко, но они греют меня, они совсем рядом.
Черная рябь воды под крылом отливала мрачным холодом. Как представишь себе, что можешь спокойно нырнуть туда вместе с самолетом, становится не по себе. А ведь сколько летчиков нашего полка за три года войны легли навечно там, под этими черными волнами. Где-то здесь врезался в волны и дважды Герой Советского Союза Борис Сафонов. Он сбил двадцать пять вражеских самолетов! Двадцать пять! И два из них в своем последнем бою, при отражении налета фашистской авиации на корабли нашего конвоя.
А сейчас, именно вот в эту, в данную минуту, из норвежского порта Вардэ в Киркинес тайком пробирается караван вражеских судов. И потому мы в воздухе. Караван должны атаковать наши торпедные катера. Нам поставлена задача — отыскать караван, навести катера на цель и обеспечить их выход из атаки. Да, всего лишь отыскать, навести и обеспечить выход. Катерники будут драться, а мы — прикрывать их. Всего лишь только прикрывать. Мало ли, вдруг какая случайность или какой неожиданный маневр немецкого командования.
Нет, никакого воздушного сражения, естественно, не предвиделось. Не предвиделось, хотя бы потому, что иначе командир полка послал бы в этот полет кого-нибудь другого, а не нас с Кулагиным. За три года войны вражеская авиация крепенько сдала. Не хватает у них уже сил латать все свои дыры. Вот и проводят транспорты почти без защиты, надеясь лишь на слабенькие корабли охранения, плохую погоду да нашу неосведомленность. Однако «наша неосведомленность» нас и на этот раз не подвела. Наше командование в довольно мелких подробностях знало о составе вражеского каравана, грузе, курсе, квадрате нахождения и о том, что с воздуха фашистам никакого охранения не придано.
Мы с Юрой Кулагиным еще не видели живьем ни одного вражеского самолета. Созерцали их пока, как говорится, лишь в кино да на картинках. В училище нас прямо замучили этими картинками. Фас, профиль, вид сверху. Что за тип самолета? Каково вооружение? Скорость? И выдай мгновенно, как автомат. Задумываться не положено. Кроме как на картинках, в училище вражеской техники не увидишь. А на Баренцеве ее увидеть можно. Только она есть, да не про нашу честь. Командование полка нами слишком дорожит. В бой нас не пускают. У нас, видите ли, нет боевого опыта. А откуда он, интересно, возьмется, этот боевой опыт, если не ходить в бой?