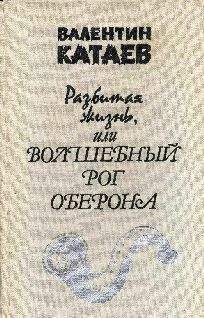Валентин Катаев - Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона [Рисунки Г. Калиновского]
…но что нас больше всего поразило и унизило, это несколько небольших моделей самолетов, поставленных на специальные тумбочки. Они являлись главным украшением павильона и представляли из себя чудо искусства, точности, глазомера и совершенства пропорций. При виде этих моделей мы с Женькой сконфуженно отвернулись друг от друга и вышли из павильона как побитые собаки, даже не взглянув на свою модель Блерио, которая, заляпанная клейстером, неуклюжая, как табуретка, с полуотломанным крылом, лежала на траве под кустом роз, усыпанным полураспустившимися бутонами, пылающими на ярком солнце…
Мы даже не обратили внимания на все выставочные чудеса, мимо которых плелись к выходу: на знаменитый деревянный самовар известной чайной фирмы «Караван», высотой с четырехэтажный дом и чайником на конфорке, откуда посетители выставки могли обозревать выставочную территорию, не менее знаменитую громадную бутылку шампанского «редерер»; паровую карусель с парусными лодками вместо колясок и медным пароходным свистком; павильон «Русского общества пароходства и торговли» (РОПиТ) в виде черного пароходного носа почти в натуральную величину, с бушпритом, мачтой и колоколом.
Мы даже не обратили внимания на сводящий с ума горячий запах вафель со сбитыми сливками, которые тут же на глазах у публики пекли в раскаленных вафельницах, нагревавшихся электрическим током…
…а сосиски Габербуш и Шилле на картонных тарелочках, с картофельным пюре и репинским мазком горчицы…
Эх, да что там говорить!..
Гостиница «Центральная».
Мне подарили фотографический аппарат марки «Кобальт» или что-то в этом роде. Он представлял из себя прямоугольный ящичек, скорее коробку, оклеенную черной шагреневой бумагой под кожу, издававшей особый, как мне тогда казалось, «фотографический запах».
Первые мои опыты фотографирования оказались крайне неудачны: я торопился, нередко вставлял пластинку в кассету наизнанку; сквозь не совсем плотно закрытые ставни в комнату проникал губительный луч уличного фонаря, засвечивающего снимок; иногда оказывалось на пластинке два совершенно разных снимка — один вертикальный, другой горизонтальный; я плохо промывал черные ванночки для проявления и закрепления, отчего пластинка оказывалась грязной, сальной; я путал вираж-фиксаж с проявителем, и тогда с пластинки слезала кожица светочувствительного слоя; я ронял пластинки, и они раскалывались в темноте на полу; словом, прошло довольно много времени, прежде чем я научился, как мне казалось, получать хорошие снимки.
…И вот в один прекрасный день я наконец отправился на стрельбищное поле, где ежедневно происходили полеты аэропланов. Снять аэроплан собственным фотографическим аппаратом было моей заветной мечтой.
…Держа за кожаную ручку свой фотографический аппарат и чувствуя приятный солидный вес заряженных кассет с новыми пластинками, тихонько постукивающими внутри, отправился я за город, на стрельбищное поле. Все предвещало удачу: яркое солнце, при свете которого можно было делать моментальные снимки, чистый, прозрачный воздух, жужжание аэроплана, которое я услышал, подходя по бурьяну к стрельбищному полю.
Довольно высоко над землей делал красивый вираж «Фарман-16», желтый, ребристый, весь просвеченный солнцем, блистающий начищенным, как самовар, медным баком для бензина и гудящий, как шмель.
Закончив опасный вираж, авиатор выключил вдруг зачихавший за его спиной звездообразный мотор и сделал одну из самых красивых фигур тогдашней авиации — так называемые «горки», когда биплан с выключенным мотором крутой волнистой линией несется к земле, то как бы опускаясь, то вдруг подскакивая в воздухе и снова взлетая, пока его колеса и лыжеобразные шасси не коснутся земли.
Спуск «горками» был так прекрасен, что залюбовавшись им, я забыл про свой аппарат и не успел сделать снимок, тем более что и солнце светило прямо в объектив, а для того, чтобы снимок вышел хороший, четкий, надо, чтобы солнце было за спиной.
Аэроплан покатился по степной траве и остановился совсем недалеко от меня. Авиатор в кожаном шлеме, в кожаном пальто и желтых крагах — известный одесский парикмахер Хиони, вечный конкурент Уточкина, — прошел мимо меня, снимая большие кожаные перчатки с раструбами и подвинчивая щегольские черные усы, слегка растрепавшиеся во время полета.
Тут же невдалеке я заметил посреди степи городской экипаж с откидным верхом. Извозчик в длинном синем армяке навешивал на морду лошади торбу с овсом, а его пассажиры — дама в большой модной шляпе, с легким газовым шарфом на шее и бородатый мужчина в купеческой поддевке тонкого сукна — шли, разминаясь, по бурьяну навстречу авиатору и что-то ему весело кричали, вероятно, поздравляли с красивым полетом, а дама даже аплодировала, как в театре.
Прислушавшись, я услышал, что дама и мужчина просят авиатора прокатить их по воздуху на аэроплане. Дама сияла шляпу, бросила ее в пыльные ромашки и повязала голову газовым шарфом; мужчина повернул свой купеческий картуз козырьком назад.
Я видел, как они вскарабкались по тросам и рейкам на нижнее несущее крыло, а затем уселись на легкое, как бы лубяное сиденье, похожее на те решета, в которых продают на привозе ягоду.
Умирая от страха, дама держалась рукой за полированную распорку, а мужчина прижимал даму к себе изо всех сил, так как они (оба дородные) должны были уместиться в одном решете. Авиатор уселся в своем решете и проверил действие рычагов управления. Моторист не без усилия качнул пропеллер, мотор зачуфыкал и закружился за спиной авиатора все быстрее и быстрее, пока не превратился в почти незримый диск, по которому пробегали молнии солнечных отражений.
«Фарман», слегка хромая, побежал по ромашкам, отделился от земли, взлетел, набрал высоту метров пятьсот, сделал круг и с выключенным мотором совершил блестящий по красоте сначала очень крутой, а потом пологий «воль-плянэ», а затем мягко сел на землю, побежал по ней, и мы с извозчиком услышали восторженное кудахтанье дамы и хохот ее спутника.
— Ишь ты, — сказал извозчик, — всю ночь прогулял со своей мамзелью в «Альказаре», а теперь догуливает здеся: полетать с похмелья захотелось. — Извозчик добродушно и с большим уважением прибавил несколько неприличных слов и покрутил головой в своей твердой касторовой извозчичьей шляпе с металлической пряжкой; на его ременном кушаке блестели металлические аппликации в виде лошадиных головок.
— Богатый господин. Приезжий. Купец. Гуляет.
В это время аэроплан подкатил к нам, и дама, раскрасневшаяся, как помидор, от страха и наслаждения полетом, увидела меня с моим фотографическим аппаратом.
— Эй, мальчик, сними-ка нас! — крикнула она.
— С удовольствием, — ответил я, зардевшись от счастья, и шаркнул ногами.
— А ты снимать-то этой штуковиной умеешь? — спросил господин. — А то такие нам рожи сделаешь, что родная мать не узнает.
— Вы, пожалуйста, только одну минуту не двигайтесь, чтобы я мог сделать выдержку, — сказал я строго и, поймав в видоискателе маленькую цветную картинку креплений самолета, а среди них фигуры дамы, господина и авиатора, щелкнул затвором.
— А ты нам снимки дашь? — спросила дама.
— С удовольствием, — ответил я, снова шаркнув ногами по пыльной траве стрельбищного поля.
— Гляди ж не обмани, — сказал господин и, порывшись в карманах своей поддевки, протянул мне большую визитную карточку, на обороте которой тут же написал золотым карандашиком, но довольно коряво: «Гостиница „Центральная“, номер 76».
Когда я брал из его рук карточку, то ощутил запах винного перегара.
Затем господин слез с аэроплана, поддержал даму, которая с хохотом прыгнула вниз прямо в его руки и крикнула «гоп!», после чего господин полез в бумажник, отслюнил четвертной билет и сунул его авиатору в перчатку.
— Дозвольте, ваше здоровье, поздравить вас с воздушным крещеньем, — сказал извозчик, снимая шляпу и путаясь в полах своего армяка.
— Ладно, потом сразу получишь за все, — сказал господин, — а теперь вези нас полным ходом в «Аркадию» обедать. А ты, мальчик, не знаю, как тебя звать, не забудь занести снимок, я тебя поблагодарю, — многозначительно добавил он, уже высовываясь из экипажа.
И дама с господином уехали.
Я понял, что мне повезло и я смогу разбогатеть… Ну да, конечно. Ведь, собственно говоря, господин заказал мне снимок своего первого полета на аэроплане. Наверное, он мне здорово заплатит, не поскупится, в особенности если фотография ему понравится. Уж раз он отвалил авиатору за полет двадцать пять рублей — сумму, в моем представлении неслыханную, — и даже бровью не повел, то небось за мой снимок не пожалеет пятерки. Ну если не пятерки, то, во всяком случае, трешницы. А ведь это — ого-го-го! Или уж никак не меньше двух рублей. На самом деле: что ему стоит дать человеку два-три рубля. Я же заметил, сколько у него в бумажнике денег! Целая пачка! И все — четвертные билеты! Я столько денег за один раз никогда в жизни не видел. Нет, меньше пятерки не даст. Совесть не позволит. Ведь снимок-то для него памятный. Шутка сказать — первый полет, да еще вместе с женой. Верное доказательство, что они действительно летали. А летали тогда далеко не все. Полетать — было тогда величайшей редкостью. Может быть, на весь город летали три-четыре человека, да и то вряд ли, не считая, конечно, самих авиаторов.