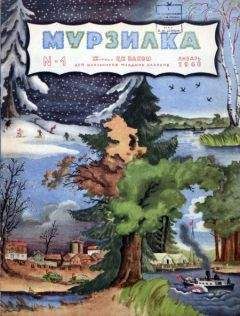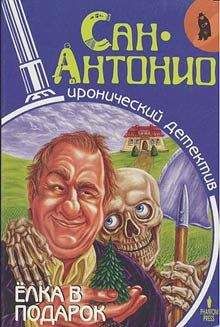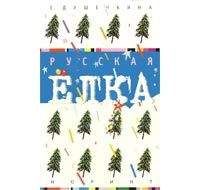Андрей Упит - Пареньки села Замшелого
Андр подошел и стал возле своего дружка, а Букстынь топтался в сторонке. Ешкины руки были протянуты к огню, а глаза так и шныряли по сторонам, отыскивая медведя. Цыганочка, вскочив на ноги, посмеиваясь, разглядывала Букстыня.
— Чем у тебя уши повязаны? И отчего только у тебя, а у тех — нет?
— Оттого, что я жених! — с важностью пояснил портной.
— Ах, значит, вот какие бывают женихи! — обрадовалась цыганочка. — А где невеста? На дровнях?
— Дома осталась, — недовольно пробурчал Букстынь. — Да разве ты не знаешь Ципслиню?
— Слыхать слыхала, а видеть не пришлось, — ответила цыганочка, что-то обдумывая. — А она богатая?
Букстынь протестующе замахал обеими руками:
— Что ты, нет!
— Почему же она твоя невеста?
— Да разве ж я знаю, почему? А только все так говорят, и ничего тут не поделаешь. И зубы у нее всё болят, чулки заштопать не умеет, допоздна в постели валяется.
— Видно, и впрямь тебе с ней беда. Ну, дай пятак и ручку, я тебе погадаю, про счастьице твое скажу.
— Знаю, знаю! Только обманешь и ничего путного не скажешь.
— Все как по книге скажу. Вот увидишь.
Пока цыганочка ворожила, предсказывая Букстыню его счастье, Андр с цыганенком мерились силой: прыгали через костер, тянули друг друга за пальцы — кто кого перетянет; под конец схватились бороться. Тем временем у Ешки с цыганом шел важный деловой разговор.
— Скажи-ка, где нам найти медведя, что приносит счастье? — спросил Ешка. — У вас тут его вроде нету. Далеко ли еще ехать за ним?
Цыган сощурил левый глаз и поднял указательный палец левой руки:
— Это когда как. Бывает, далеко, а бывает, и близко. Едешь, едешь — не доедешь; пешком пойдешь — не дойдешь. Дай рублик серебром, тогда узнаешь.
— Рубль! — Ешка подскочил. — Ты, видно, за дурака меня посчитал? Гривенник серебром — идет. А нет — не надо, сами найдем.
— Гривенник! А больше у тебя нету? Это ж почитай что даром… А все ж больше, чем ничего. — Он поплевал на монетку и положил ее в карман. — Твоя рука первая, авось счастливая. Только мой рассказ невеселый, плакать будешь, на глазах сосульки натекут.
— А я зубы стисну и не разревусь, — заверил Ешка.
— Ну ладно. Да только покрепче зубы-то стисни, тут, брат, не до шуток. Вот оно как было дело. Медведь всю зиму чах и хирел, не хотел ни плясать, ни петь, ни веселиться… Может, к нему чахотка привязалась или другая хвороба, кто знает. Только в середине зимы он взял да издох. Повесил, я шкуру на оглоблю, высохла шкура — любо пощупать. Но тут и заявляется управляющий с дворовыми. «Чего, говорит, ты, цыган, барские угодья топчешь, а лошадь твоя кусты обгладывает? Давай шкуру за убыток, и тогда можешь тут сидеть хоть до той поры, пока калужница не зацветет. Нам, говорит, медвежья шкура нужна, барину ноги греть, а то дров нет, в печи один хворост, топи не топи — все выдувает». Это мою шкуру за то, что барин — придурок, а управляющий — мошенник! Нет, я уж наплакался, теперь ты поплачь.
— Не хочу я плакать, — ответил Ешка, утирая варежкой глаза. — Только что же мы делать станем, коли медведя нету в живых? Бабы мне глаза выцарапают. Живьем, как вороны, заклюют.
— Нехорошо, сынок, худо… — Цыган почесывал в затылке, что-то обдумывая. — А все ж тут кое-чем можно помочь. Гривенник-то у тебя нашелся, а вот есть ли смелость?
— Есть! — ответил Ешка и стукнул себя кулаком в грудь.
— Коли есть, хорошо. А в придачу еще и хорошие уши нужны, тогда и вовсе ладно будет. Ну, так слушай. Медведь без шкуры — не медведь. Вот и выходит, значит, что главное не медведь, а шкура. Так ты же ее у меня купил за гривенник серебром! Она теперь твоя, только сумей взять.
— Стало быть, мне надобно ехать в замок?! — воскликнул Ешка и, несмотря на всю свою смелость, слегка струхнул.
— В Черное имение, сынок, иначе никак. Ежели с вечера выехать, к утру доедешь. А как приедешь, скажи: «Мое добро! Подавайте его сюда!»
— А они отдадут? — усомнился Ешка.
— Не отдадут — сам возьми. Скажи так: «Что цыган честно продал, то все равно что отцово наследство. А что унаследовано, то мое». Коротко и ясно. Коли смелость есть.
— Есть! — еще раз заверил Ешка. — Андр! Букстынь! Поехали!
Андр шел к дровням, гордо выпятив грудь: он одолел цыганенка и когда тянулись, и когда через костер прыгали, только вот насчет борьбы так и не решили, кто кого, потому что оба повалились и ни один не сумел положить другого на лопатки. Букстынь брел насупленный: как видно, большого счастья цыганочка ему не нагадала.
Ешка, щелкая кнутом, крикнул:
— Пошла, кобылка! В имение!
Цыганенок с достоинством приподнял шапку, цыганочка помахала платочком, а цыганка все сидела и перебирала добро в торбе. Цыган вынул Ешкин гривенник и попробовал его на зуб, точно ли серебряный: поди знай… может, и надули…
В Черном имении
С рассветом Черное имение зловещим пугалом темнело перед стеной белого, заиндевевшего леса. Высокая башня замка маячила над зубчатыми вершинами елей, а низкая тонула в синеватом сумраке, и лишь зоркий глаз мог ее различить. В замке тускло светились два огонька, словно глаза старого волка. Ворота с причудливой оковкой заперты. Перед ними трое приезжих остановили лошадь. Возница соскочил с дровней и постучал колотушкой. Стукнул раз — ни звука, стукнул другой — тишина. После третьего удара в маленьком оконце блеснул свет, показалась взлохмаченная голова.
— Чего надо? Кто такие? К кому? — крикнул сторож.
— Приезжие! — закричал Ешка в ответ. — К барину.
— Покупать или продавать?
— Там видно будет, — трубил Ешка. — На возу мешок овса, денег полны карманы, нам все нипочем.
Свет в оконце погас, ворота со скрипом и скрежетом отворились, и дровни въехали во двор.
В большом зале замка в печи трещали и шипели сырые еловые ветки. Свет от огня достигал сводчатого потолка, там было темно, как под крышей риги. В окнах то синим, то красным переливались цветные стекла. На ложе в нише — груда одеял и подушек, рядом на полу — медвежья шкура, вдоль стен — дубовые стулья с высокими спинками.
За отворяющимися в обе стороны дверьми орудовал Подметальщик. Когда двери отворялись, после каждого взмаха метлы доносились слова песни:
В густом лесу был дом,
В густом лесу был дом,
В густом лесу был барский дом!
Ах, светик-цветик, барский дом!
В лесу был барский дом.
В зале взмахи метлы стали куда размашистей, оттого что тут было где размахнуться, а песня — бойчее и звонче, оттого что потолки выше.
В том доме барин жил,
В том доме барин жил,
Богатый барин в доме жил,
Ах, светик-цветик, барин жил,
Богатый барин жил.
Оборвав песню на предпоследней ноте, Подметальщик вдруг чихнул и недоуменно покачал головой:
— Тьфу, будь ты неладна! Экая пылища! Сам черт ее сюда нанес, что ли? Ведь два раза в году метешь, а и то не продохнуть.
Уморившись, он, отдуваясь, развалился в бариновом кресле и зажал между колен метлу.
Через отворенные двери донесся голос Усыпляльщика:
— Эй, Подметальщик, слышишь?
— Чего ж не слыхать? Слышу! — проворчал Подметальщик, встал, так и не подняв упавшую на пол метлу, и лениво направился к дверям.
В них появился Усыпляльщик, пухлый, белый, в бархатном камзоле.
— Пыль подмел? — спросил Усыпляльщик.
— Подмел… — Подметальщик ощетинился, как еж. — Понятно, подмел!
— И тряпкой прошелся?
— Неужто без тряпки?
— Смотри, барин будет спать в большом зале.
— Чего ж это вдруг — в большом?
— Потому как после бессонной ночи придет к нему большой сон… Берегись: сыщет хоть одну пылинку — шкуру с тебя спустит!
— Где тут сыщешь?
Оставшись один, Подметальщик зевнул и провел пальцем по спинке баринова кресла, оставив на ней глубокую борозду.
— Вот сатана! И кто ее сюда наносит? Ведь два раза в году метешь, а всё хоть плугом пропахивай.
Не успел он усесться, как в дверях показался еще один баринов слуга — Толкальщик, плечистый, с засученными рукавами, в больших сапогах.
— Эй, Подметальщик! — закричал он таким гулким голосом, что летучая мышь под темным сводом с перепугу захлопала крыльями. — Мне надобно барина подталкивать, чтоб сюда почивать шел, а внизу у лестницы куча мусора навалена. Никак не перебраться.
— Ничего, протолкнешь! — И Подметальщик махнул рукой, откидываясь на спинку кресла. — Этакая орясина, а протолкнуть не можешь! Я вот тут все утро парюсь, даже спина взмокла.
— Ну, берегись, коли барин упадет! — покачал головой Толкальщик. — Тогда-то уж тебя пропарят…
Подметальщик тяжко вздохнул:
— Да что это за жизнь!.. В зимнюю-то пору до солнышка встаешь, а еще говорят — в имении легкое житье. В три погибели гнут!