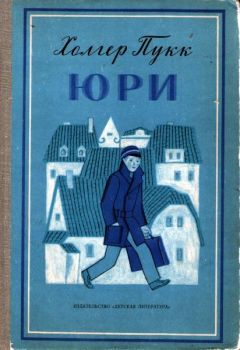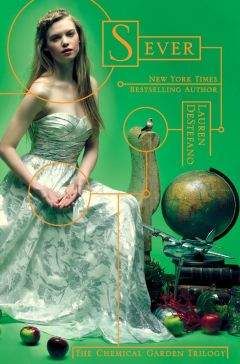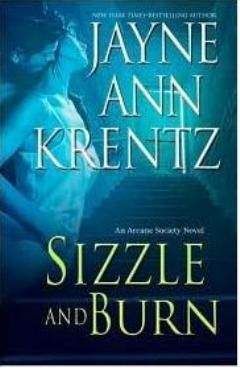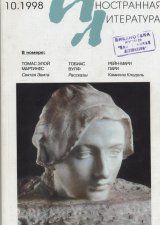Рейн и Рийна - Пукк Холгер-Феликс Янович
— Да скажи же что-нибудь! Ты уже жалеешь, да? — с болью и разочарованием вырывается у Рийны. — Все, кончился запал?
— И часто они устраивают такой суд? — презрительно растягивая слова, спрашивает Рейн. Он не смотрит на Рийну, он сидит, по-прежнему обхватив голову руками.
— Когда надо…
— Сегодня, значит, надо было! — цедит Рейн сквозь зубы.
— Значит, надо… — Рийна снова пытается уйти от ответа.
— Надо, значит! — вспылив, Рейн поворачивается, чтобы видеть лицо Рийны. — Ты тоже странная какая-то… как овца! Послала бы их к чертям собачьим!
— Ах, ты не знаешь… — вздыхает Рийна. — Это же не в первый раз…
— И ты… всегда такая… — Рейн вскакивает как ужаленный. В его голосе, выражении лица, в каждом жесте ощущается полное смятение, непонимание, как можно смириться с таким отвратительным, ненормальным положением. Он просто понять не в состоянии, что заставляет Рийну идти на такое унижение. Неужели эти ампулы? Может, сегодня на столе лежали те самые ампулы, которые он, Рейн, помог вчера украсть из больничной аптеки? Нет, не может быть, чтоб человек был готов из-за них на такое! Он, правда, кое-что слышал и читал об этом, но, честно говоря, считал все преувеличением.
Тон Рейна, его поведение больно кольнули Рийну. И она вся сжимается, словно в ожидании нового удара.
— Ты вот все обо мне говоришь… А тебя-то что привело к этим ребятам? — с упреком спрашивает Рийна.
— Это мое дело! — огрызается Рейн и отворачивается. Слова Рийны, в свою очередь, задели его. Надо понимать их как насмешку? Хочет ли Рийна обидеть его? Или она думала намекнуть на его слабость? Или же она ищет примирения… мол, оба хороши. Два сапога — пара.
Откинувшись на спинку скамейки, Рейн принимается рассматривать потолок летней эстрады, по которому пляшут тени ветвей.
Почему я с ними?
Почему она?
Как дальше быть? Они же изобьют меня до полусмерти…
А Рийна? Что с ней будет? Сегодня, завтра, послезавтра…
Ветер шумит листвой, равнодушно колышутся тени.
Как быть дальше?
А Рийна?
Рийна вроде взяла себя в руки или приняла какое-то решение. Она встает со скамейки, наклоняется над Рейном и, положив руки ему на плечи, словно умоляя понять ее, войти в ее положение, тихо прощается:
— Мне надо идти.
— Куда? — строго спрашивает Рейн.
— Туда, обратно…
Вот оно, то, чего так боялся Рейн! Не верил, но боялся. Рийна не в силах совладать с собой!
— Сдурела, что ли! — кричит Рейн ей в лицо и так крепко хватает за руки, как будто хочет силой удержать ее.
— Может, и так… — бормочет Рийна, пытаясь высвободить руку. Но ей это не удается, и она начинает всхлипывать.
Рейн вскакивает.
Что же делать?
Волоча за собой Рийну, он широким решительным шагом пересекает эстраду, спускается вниз и — останавливается в раздумье.
Куда? Куда идти?
И тут Рийна начинает дергаться, метаться, извиваться, старается ударить Рейна, исцарапать его… И визжит отчаянно, и дурным голосом кричит:
— Ты не имеешь права… Какое твое дело! Да кто ты вообще такой! И что ты знаешь… Отпусти! Отпусти сейчас же! Мне надо идти! Мне надо, надо… Я должна…
Решительно, даже грубо Рейн берет Рийну за плечи и трясет ее изо всех сил, безжалостно и зло. Трясет, а сам выкрикивает:
— Чего орешь! Дура! Заткнись, наконец! Я тебе покажу! Я тебе вернусь обратно!
Рийна вдруг сникает, становится вялой. Внутреннее побуждение, толкавшее ее вернуться назад, к Ильмару, слабее яростного запрета Рейна.
Рийна обнимает Рейна за шею, прижимается к нему, успокаивается:
— Ты не знаешь… не знаешь… как мне плохо. Это ужасно… ужасно! Ты представить себе не можешь…
Рейн не вникает в ее отчаяние, в причины ее плохого самочувствия, он даже готов предположить, что она притворяется. И обрывает ее холодно и резко:
— Ничего с тобой не станется! Пошли!
Рийна покорно следует за Рейном. Так приятно слушаться этого странного парня. Наорал на нее, а руку не отпускает, это он крикнул там: «Не дурите!», положил сохнуть ее туфли…
Они спускаются с горки и оказываются среди домов. Быстро и уверенно шагают по улице, только дробно стучат каблуки. По обеим сторонам тянутся освещенные праздничные витрины. Проезжающие машины весело подмигивают им желтовато-красными огоньками. Возле входа в кинотеатр заливается смехом какая-то компания.
Они быстро и уверенно шагают дальше.
Рийну охватывает такое чувство, будто впереди ее ждет что-то хорошее и красивое, она поднимает голову и спрашивает доверчиво:
— Куда мы идем, Рейн?
Что ответить ей? Рейн продолжает молча шагать по вечерней улице… Из одного квадрата света в другой, мимо одного дома, мимо другого, от одного взрыва смеха к другому… Нельзя колебаться, останавливаться в нерешительности. Иначе Рийна снова захочет вернуться в тот дом, в ту комнату…
Освещенные витрины остаются позади. Они выходят на бульвар. И все продолжают идти дальше. Торопливо, уверенно. Оба знают, что останавливаться нельзя.
Откуда-то доносятся звуки органа. Они нарастают с каждым шагом, как будто музыка спешит им навстречу.
Вот и портал старинной церкви. Двери в нее открыты. Они всегда открыты для туристов, для всех любителей искусства и истории. Из дверей льются на улицу звуки органа. То мощные, торжественные, то нежные. Музыка льется на улицу, под вековые деревья, приглашая прохожих зайти под церковные своды.
Рийна, сжав руку Рейна, тянет его на порог церкви, в сонм звуков.
— Ты чего? — удивляется Рейн, но следует за Рийной.
Звуки органа зовут Рийну к себе, ближе, ближе… Ей и в голову не приходит противиться им. Она просто изнывает от звуков музыки, влекущей ее обещанием забвения.
Возле ребристого каменного столба Рийна неожиданно замирает, как будто направлялась именно сюда.
В церкви пусто и сумрачно. Ни туристов, ни любопытных. Неужели органист — единственная живая душа в этом сводчатом зале? И это ему подвластно все — и звуки, и полумрак, эти своды и гулкое пространство? И они двое, только что переступившие порог?
Все окружающее, все заботы и бессмысленная суета теряются в полумраке огромной церкви. И полумрак этот — от самых каменных плит пола и до сводчатого потолка полон многоголосого гула органа.
Гул нарастает, подчиняя себе все кругом, все растворяя в себе, и тут же стихает, и только нежные переливы ласкают слух. И вновь нарастают звуки, радуясь, ликуя, торжествуя победу, празднуя всепрощение, и все отдается радости. Этим звукам, этим переливам тесно под сводами. Сейчас, сейчас рухнут стены, и крыша, подобно листку бумаги, подхваченному вихрем, взлетит ввысь. Эта радость, это ликование вот-вот разнесет стены, своды. Им же тесно здесь! И нет такого зала, который мог бы вместить их!
Прислонившись к столбу, Рийна отдается во власть звуков. Глаза ее прикрыты, она крепко-накрепко обхватила каменный столб, словно мощные волны музыки могут умчать ее с собой и бросить потом на эти каменные плиты.
Восторженное умиротворение придает лицу Рийны совершенно новое выражение, какую-то просветленность, ясность. Серые повседневные заботы, трагичность исчезли куда-то. В этой девушке сейчас живет одна лишь музыка, только то, что хотел сказать композитор.
И такая Рийна — для Рейна открытие.

Если б оказалась здесь случайно Рийнина бывшая учительница пения, она сейчас узнала бы в этой девушке солистку школьного ансамбля. Узнала бы в ней тихоню Рийну, которая всей душой переживала каждую песню и, растворяясь в каждой песне, несла ее слушателям. Да, она тотчас узнала бы эту худенькую девушку — математика и физика давались ей с трудом, но музыка была ее стихией. Припомнила бы учительница и то, что Рийне пришлось бросить школу и поступить на работу. Отец Рийны громогласно убеждал директора школы в том, что ему нужна не ученая белоручка, а хозяйка, которая и сготовит, и постирает, и сама заработает себе на пропитание.