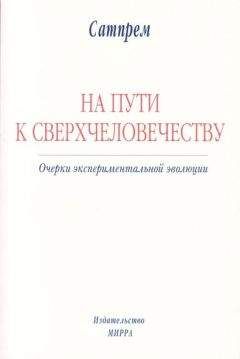Василий Авенариус - На Москву!
— Да, негласно.
— То-то же. А государь наш Борис Федорович отрядил к королю в Краков дворянина Огарева объявить тотчас войну Польше, буде поляки не будут отозваны. Король и нашел, видно, что дурной мир все же лучше доброй ссоры.
— Бедный царевич! Каково-то ему было вынести все это!
— М-да, не сладко… Сказывают, что он совсем голову потерял, метался по лагерю от палатки к палатке, упрашивал поляков, Бога ради, не покидать его, целовал с плачем руки у польских патеров…
— Ну, это дело нестаточное! Унижаться так он не стал бы! — запальчиво перебил Курбский.
— За что купил, за то и продаю. Как бы там ни было, патеры при нем остались, да задержали с собой и тысячи полторы польской шляхты.
— Что значит такая горсть против десятков тысяч русских!
— Покамест не ушли от него и казаки. Но особенно он этому бесшабашному народу, кажись, не доверяет; зачем бы ему иначе было снять осаду?
— Так где ж он теперь?
— Засел, слышно, в Севске. Но наше царское войско также двинулось туда, и, как знать? в это самое время, что мы беседуем здесь с тобой, Севск, может, уже взят, а с ним и сам вор-расстрига.
Точно оса его ужалила, Курбский сорвался с места.
— И не грех тебе, боярин, — сказал он, — давать такую кличку родному сыну царя Ивана Васильевича!
Глаза его вспыхнули при этом таким искренним, благородным гневом, что Басманов на него загляделся.
— При нашем дворе ему нет иного звания, — отвечал он. — Да и в Разрядной книге, по повелению государеву, он точно так же прописан…*
______________________
* Выписываем здесь упомянутую статью в Разрядной книге: «Учинилась весть государю царю и великому князю Борису Федоровичу всея Руси, что назвался в Литве вор государским именем царевичем Дмитрием Углицким, великого государя царя Ивановым сыном. А тот вор, расстрига, Гришка сын сотника стрелецкого Богдана Отрепьева, постригшись был в Чудове монастыре в дьяконех и во III (1603) году сшел на Северу (в Северскую землю) и сбежал за рубеж в Литву и пришел в Печерский монастырь, а с ним вор же чернец Михайло Повадин, и умысля дьявольской кознию, разболелся до умертвия и велел бить челом игумену Печерскому, чтоб его поновил, и в духовне (на духу) сказал, будто он сын великого государя царя Ивана Васильевича, царевич Дмитрий Углицкий, а ходит будто бы в искусе непострижен избегаючи, укрывался от царя Бориса, и он бы, игумен, после его смерти, про то всем объявил; и после того встал, сказал, будто полегчало ему. И тот игумен с тех мест учал его чтить, чаял то правда, и ведомо учинил королю и сенаторам; а тот расстрига, сложив черное платье, сшел к Сендомирскоту воеводе, называючись царевичем, да и Московского государства во всей Севере и в польских городах учинилось то ведомо».
— Но он царевич, он настоящий царевич! — с жаром подхватил Курбский. — И сам бы ты, боярин, уверовал в его царское происхождение, кабы знал про него все, как я. Коли дозволишь, я сейчас расскажу тебе.
Точно испугавшись, что доводы Курбского могут оказаться слишком убедительными, Басманов быстро приподнялся.
— Я и то у тебя засиделся, — сказал он и, осторожно пожав здоровую левую руку Курбского, пожелал ему поскорее поправиться.
Опять прошли две недели времени. Тут по Москве пронеслись новые слухи, один другого для Курбского тревожнее: сперва, будто запорожцы, подкупленные новым царским воеводой Василием Шуйским, изменили царевичу Димитрию и ушли обратно в свою Запорожскую Сечь; потом, будто остальная рать царевича (из оставшихся при нем поляков, донцов и русского сброда) разбита наголову, причем называлось и место роковой битвы — село Добрыничи, и, наконец, будто сам царевич взят в полон, и его в железной клетке везут в Москву. Последнее известие — о пленении царевича — не подтвердилось.
— Мало ли что болтает черный народ! Fama crescit eundo (молва растет на ходу), — отозвался на вопрос Курбского Бенский, презрительно пожимая плечами.
Относительно же измены запорожцев и разгрома Димитриева войска под Добрыничами не оставалось уже сомнения. Вскоре стало еще известным, что царевич с поляками заперся в Путивле, а оставшиеся ему верными донские казаки, под начальством своего лихого атамана Корелы, двинулись вперед и заняли крепость Кромы, которая тотчас и была обложена царским войском.
Со дня на день Курбский ожидал роковую весть, что Кромы пали. Но неделя шла за неделей, наступил апрель месяц, а каких-либо известий о новых успехах царских воевод что-то не приходило. Напротив того, передавали шепотом из уст в уста, что в государевой рати, безуспешно третий уже месяц осаждавшей Кромы, открылись повальные болезни, а между военачальниками возникли серьезные раздоры; далее, что от названного царевича Димитрия по всей Руси рассылаются увещевательные грамоты народу, и те грамоты крепко мутят умы.
Курбский пуще прежнего порывался теперь вон из Москвы. Сломанная правая рука его совершенно срослась, и, вопреки предсказанию лекаря, он мог даже держать в ней саблю. Но на сделанный им через Бенского запрос: когда же его, наконец, отпустят, получился из дворца уклончивый ответ: «может ждать».
Так ему ничего не оставалось, как вооружиться терпением, а в ожидании упражнять одеревеневшие в лубке мышцы своей правой руки, фехтуя то с Бенским, то просто с воображаемым противником. За этим же занятием застал его и Басманов, который неожиданно навестил его вторично.
— Вот за это хвалю! — сказал Басманов. — Никогда не унывай, князь…
— Все со скуки, боярин, — отвечал Курбский. — С тех пор, что я оправился, и лекарь мой редко уж когда заглянет, чтобы потешиться со мной сабельным боем.
— Так я могу доставить тебе это приятство, — усмехнулся Басманов и обнажил свою собственную саблю.
Клинки их скрестились. Первое нападение сделал Басманов, — сделал как бы шутя. Скоро, однако же, он убедился, что самому ему надо отбиваться от наносимых ему быстрых и ловких ударов; все более теснимый, он отступал назад шаг за шагом, пока не уперся спиной в стену.
— Исполать тебе и твоему лекарю! — сказал он, влагая саблю обратно в ножны. — Тебе хоть сейчас в рукопашную. А знаешь ли, князь: кабы нам с тобой этак бок о бок стоять в бранном поле…
— И сам я весьма рад бы, — отвечал Курбский. — Но раньше этому не бывать, пока мой царевич не станет и твоим царем.
— Никогда он им не будет…
— Будет, будет! Правому делу Господь не даст погибнуть.
— А ты, князь, считаешь его дело правым? Ты веришь, что он настоящий царевич.
— Да как же не верить? Все, кто есть при нем, в него верят.
— Да сам-то он в себя верит ли?
— Как ты можешь говорить так, боярин! — возмутился Курбский. — Притворяйся он, неужто я, видя его каждый день, чуть не каждый час, ничего бы не подметил? Нет, он ведет себя во всем, как царский сын…
И он принялся описывать в живых образах и красках благородный нрав и все поведение, всю жизнь Димитрия, начиная с его первого появления у князя Адама Вишневецкого в Брагине вплоть до осады Новгорода-Северска. И, странное дело! На этот раз Басманов не пытался даже прервать глубоко убежденную речь пылкого юноши; слушал он молча, строго опустив глаза и сжавши губы; когда же Курбский кончил, то заметил:
— Теперь я понимаю, князь, что ты ему так безмерно предан. Винить тебя за то у меня язык не повернется. Но мы с тобой как люди разной веры: ты веришь в своего царевича, как я в моего царя. Не будем же спорить, смущать друг друга. Не могу ли я чем услужить тебе? Скажи.
— Можешь, боярин; одно у меня челобитье: дай мне выбраться, наконец, из этой тюрьмы!
— Да какая же это тюрьма? Жизнь у тебя здесь довольственная, привольная…
— Привольная, когда и шагу не смею сделать за ворота!
— Почему так? Гуляй себе безвозбранно по всему городу.
— С двумя стражниками за собой? Я, слава Богу, не колодник и не подлый раб, а свободный человек, прибывший сюда по охранному листу.
— Да от кого? В том-то и дело! Что, сидя этак в четырех стенах, ты извелся со скуки, — как не поверить. Ходатайствовать о том, чтобы тебя сейчас отпустили из Москвы, — мне, видишь ли, не совсем способно. Убрать же стражников, — приложу все тщания.
— И за то, боярин, буду тебе много благодарен! До сего времени ведь не мог поклониться даже святыням московским.
— А ты даешь мне свое княжеское слово без ведома царя не отлучаться из Москвы?
— Даю.
— Так наутрие стражников уже не будет. А засим будь здоров; авось, скоро опять свидимся.
Глава четырнадцатая
КАК ОПАСНО ТОМУ ЗАХОДИТЬ В КРУЖАЛО, КТО НЕ ДЕРЖИТ ЯЗЫКА ЗА ЗУБАМИ
Первое, что услышал Курбский на другое утро от прислуживавшего ему при одевании Петруся Коваля, было, что обещание Басманова исполнено: у ворот дома не видать стражников, торчавших там и денно и нощно, как бельмо на глазу.