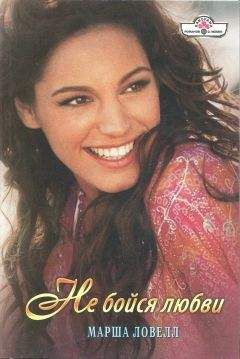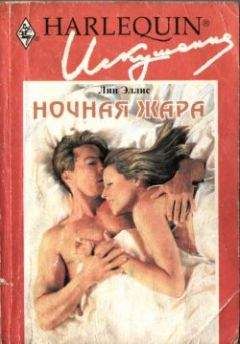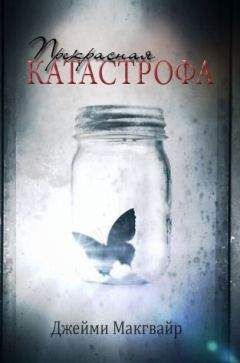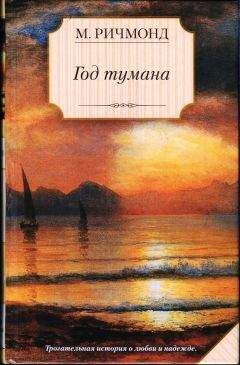Зиновий Давыдов - Из Гощи гость
Акилла спит целый день в розвальнях под сеном. Нефед понукивает да покрикивает на быстро похудевшего за великую путину коня. А конь и сам, без плети и вожжей, бросается вскачь, заслышав волчий вой в окосматевшей от инея и снега чаще.
Не ко всякой ночи в пустынной этой стране доберешься до человечьего жилья. А и доберешься, глядь — вместо поселка погорелое место; вперемешку со снегом мусор да зола; по пожарищу разметаны кости человечьи. Это — Комаринская волость. За преданность Димитрию сожгли ее годуновские воеводы дотла, пустили «комаров» по ветру дымом…
Глядя на это, станет Акилла ругаться, и проклинать, и усы свои вытопорщит ежом; таращит и Нефед испуганно глаза свои на череп безносый у лошади под копытами; прядает ушами пугливый конь и вдруг как рванется и вынесет их за околицу враз! Там, у бугра полевого, распрягут его Акилла с Нефедом, насыплют ему овса в торбу и заночуют, оглядевшись на четыре стороны, на горячее зарево за горою и холодные звезды в небе.
XIII. Красный сукман
Без князя Ивана зазеленело в этом году в огороде и на пустырях за хворостининскими хоромами. Над озерками день-деньской режут воздух стрижи, взвиваясь вверх и низвергаясь к воде, шарпая по ней смурою грудью. Кузёмка, с утра босой, гонит через двор лошадей к колодцу.
Из избы за конюшней вышел Акилла. Он перекрестился на колокольню Ивана Великого и заковылял в огород.
— Что, дед, — молвил Кузёмка, — опять снарядился до ночи? Али до завтра?.. Ночевать приволокешься, дедко?
— Приволокусь, сынок, ужо приволокусь…
— Скоро ль князя ждать мне, дед? Говорил ты тому с месяц: будет скоро…
— Скоро и будет, сынок. Жди-пожди да знай молчи.
Акилла сунул бороду в колодезную бадью, испил водицы в сытость и побрел не к воротам, а по огороду и далее — пустырями.
Второй уже месяц живет Акилла на хворостининском дворе, в избушке за конюшней. В дождь ли, в ростепель — все равно он доселе уходил с Нефедом по утрам со двора. А неделю тому назад пригнали они с Нефедом откуда-то мерина каракового. Оседлал Нефед мерина, потрогал зачем-то онучки на ногах, сел в седло — и был таков. Стал Акилла ходить одни по Москве. Он и сегодня в красном сукмане своем вышел с утра, дошел пустырями до Черторыя и повернул к Арбату.
У кирпичной стены щепетинники[49] торговали на скамьях булавками, нитками, медными пуговицами, разноцветными стеклышками в оловянных перстеньках. Акилла походил вдоль ряда, прислушался к тому, что рассказывали кудрявые молодчики, разряженные щеголихи, портные мастера, копавшиеся в щепетинье то в одном коробе, то в другом…
— Ладил я ей шушун[50] миткалиный, да с хмелю дал маху, в груди и обузил, — гугнил коротенький человечек в утыканном иголками полукафтанье, вывалянном в перьях.
— А она? — спросил щепетинник.
— А она как заревет да за бороду меня. «Зачем, — кричит, — вор, добро мое сгубил? Напущу-де на тебя, вор, пеструху!» А что такое пеструха, так и не сказала.
— Ведьма она.
— Знамо, ведьма, — подтвердил гугнивый. — Я как обмерял шушуны на ней, так через платье хвостище и прощупал.
— Житьецо ноне!.. — вздохнул щепетинник. — Либо хворь напустят, либо для волшебства след вынут, либо перед властью оболгут. За все расплачивайся — коли не головой, так казной.
— Знамо, так, — согласился гугнивый. — Перехватали бояр, теперь стали холопов ловить на пытку: хотят всё знать, чтобы ничто утаено не было. Только и помышляют, как бы у кого бы все выведать… Тебе чего, старый? — дернулся он, заметив рядом с собой Акиллу. — Чего тут уши развесил?
— Ты, миленький, коротенький, блинов объелся али квасу опился? — молвил Акилла. — Чего взыграл, дикой ты!
— Пошел, пошел! — заплевался гугнивый. — Ишь ты!.. Сам вот алтына не стоишь, раскоряка, а сукман напялил рублевый. Смеешь ли, плут, ходить в цветном платье? Откудова он у тебя, сукман такой? Ну-ка молви!
У Акиллы — усы дыбом, но он не стал отругиваться и отошел. Прошел по щепетинному ряду и пропал. А гугнивый вытянул после того из короба, из-под мотков и шнурков, бумажный лист. Развернул: черны чернила, кудряво письмо. Глянул в лист и щепетинник, ничего не выглядел.
Проходил поп, стал читать лист:
— «Мы, великий государь, на православном престоле прародителей наших, великих государей царей российских, по своему царскому милосердному обычаю, всех вас пожалуем: и вам, боярам нашим, честь и повышение учиним, вотчинами вашими прежними вас пожалуем, к тому и еще прибавим и в чести вас держать будем; а вас, дворян и приказных людей, в нашей царской милости держати хотим; а вас, торговых людей всего Московского государства, пожалуем — в пошлинах и в податях велим во льготе и в облегчении учинить…»
— В облегчении! — воскликнул щепетинник.
— В облегчении, — ответил поп.
— И во льготе?
— И во льготе ж.
— Читай дале, батька.
— «И вас, черных людей, — продолжал поп, — и все православное христианство учиним в тишине и в покое и во благоденственном житии».
— Житии! — закипятился гугнивый.
— Житии ж, — повторил поп.
— Читай дале.
Поп откашлялся, протер глаза и пошел опять водить перстом по бумаге:
— «А что до сих пор вы, бояре наши и воеводы и всякие служилые люди, стояли против нас, то чинили лихое то дело по неведению, и мы в том на вас нашего гнева и опалы не держим и пишем к вам, не хотя видети в христианстве кроворазлития и жалея вас и о душах ваших, чтоб вы в своих винах добили челом и милости просили у нашего царского величества, государя царя и великого князя Ди… Ди…»
Поморгал поп глазами, снова потер их кулаком…
— «Ди… Ди…»
— Чего, батька, споткнулся, воза не сдвинешь? — наклонился к нему щепетинник. — Читай дале лист!
— Знамо дело, вычитывай, — поддакнул и гугнивый.
— «Великого князя… Димитрия Ивановича», — выдавил наконец из себя поп, и руки у него задрожали, белей листа стало попово лицо.
И щепетинник побелел, и у портного мастера гугнивого бороденка прыгает.
— Не прознали б, — щелкает зубами щепетинник.
— Не проведали б, — гугнит портной.
— Подноготную… — дрожит щепетинник.
— Сущую с гущею… — трясется поп.
XIV. Панихидный колокол
А раскоряку в красном сукмане, что терся тут возле щепетинникого короба, — где его теперь сыщешь? Пока читал поп портному с щепетинником лист, пока тряслись они от страху и охали от беды неминучей, забрел Акилла в Китай-город, к лавкам мясным, и пошел вдоль лавок в тяжелом духу и собачьей кутерьме. Шел, шел да и зашел в шалаш; покопался в требухах, в гусиных лапках и рубце бычьем, вытащил из-под сукмана мошну и купил бараньих кишок на грош. Потом на перекрестке сел наземь и стал кишки перебирать. Подбросил кишки раз — пали они крестом; подбросил в другой — кучкой улеглись. И возле Акиллы уже не два человека, не пять, не десять — великое сборище людей столпилось вокруг красного сукмана; наклонились, переглядываются, перешептываются…
— Ведун?..
— Знахарь?..
— Гляди-ко, на кишках гадает.
— Ох, ох! Последние времена.
— Светопреставление…
— Дед!
— Ась?
— Чего кишка кажет? Добро али лихо кажет кишка?
Акилла подбросил кишки, пали они каким-то узором замысловатым.
— Добро, сынок, добро кажет кишка, — молвил Акилла. — Будет скоро на Москве перемена и всем православным христианам полегчение.
— Полегчение, говорит, будет, — зашелестело в толпе.
— Перемена…
— Вижу я великую рать, — наклонился Акилла к кишкам. — Не счесть полков; пушек — тьмы тем; стрельцов войско, ногаев орда; казаки донские, казаки волжские, запорожцы…
Акилла сгреб в горсть кишки, подбросил их и снова склонился к ним.
— Идет та рать на Рыльск, на Севск, Кромы прошла, на Орел идет…
В толпе со страху завыла было какая-то женщина, подхватила другая, но на них зашипели, зашикали, живо заткнули им рты. А «ведун» в красном сукмане продолжал, копаясь пальцами в разбросанной по земле требушине:
— И куда придет та рать, там звон, и гульба, и пир горой, и всем православным христианам радость. А во главе рати той стоит прирожденный царь Димитрий Иванович, Иваново племя. И простые люди преклоняются перед ним, и он им говорит: от всего-де вас избавлю; станете жить беспошлинно и без дани, и ни от кого вам обиды не будет.
Акилла поднял голову и увидел себя в плотном кольце дугою согнутых тел. Тогда он, не глядя уже на кишки, только сверкнув глазами из-под сивых бровей, молвил:
— Считали его, государя, будто в Угличе убитым, будто его и похоронили там в церкви у Спаса; ан то враки и ложь от изменников и лиходеев.
Акилла подобрал свои клюшки, поднялся с земли и протиснулся сквозь оцепенелую толпу, не спускавшую глаз с кишок: в мусоре и прахе они, подобно змеям на солнце, раскинулись у дороги.