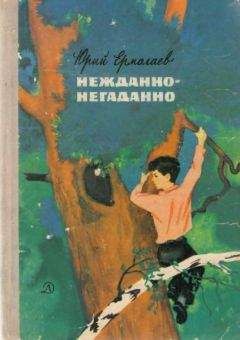Борис Раевский - Товарищ Богдан
— Господа! — сказала Журавская. Она была в строгом темном платье и почти без украшений. Лишь браслет на руке. На сморщенном личике ее сейчас пылали огромные глаза, и от этого Журавская казалась даже красивой. — Господа! Сегодня один из счастливейших дней в моей жизни. Сегодня мы создаем «Рабочий союз»! Во имя культуры и прогресса!
Она еще долго, восторженно говорила о будущем «Союзе», о князе и его мудром начинании, о местных благотворителях, которые пожертвовали крупные суммы «Союзу», о новых школах и библиотеках.
— А теперь, господа, — закончила она, — нам надлежит принять устав нашего «Союза».
На сцену поднялся молодой человек в пенсне и с бородкой — чиновник из городской управы.
Он поправил пенсне и звучным голосом стал читать устав.
Зал слушал.
В уставе говорилось, что «Союз» создается для просвещения рабочих, что средства его складываются из благотворительных пожертвований, что во главе «Союза» стоит правление, которое избирается ежегодно.
Устав был длинный — 38 пунктов.
Молодой человек неторопливо дочитал его до конца, снял пенсне и ушел со сцены.
— Я полагаю, — сказала Журавская, — что устав составлен очень продуманно. Мне кажется, он удовлетворил всех собравшихся. Предлагаю считать устав принятым.
Раздались аплодисменты.
— Дозвольте спросить? — вдруг раздался голос откуда-то из конца зала.
— Пожалуйста, дружок, — любезно улыбнулась Журавская. — Выйдите сюда, чтобы все слышали.
— Да я и отсель. Услышат.
Это был Федор. Один из тех трех Федоров. Пожилой.
— Я вот про чего… — Он встал и ладонью пригладил волосы. — Вот, к примеру, у нас, на Брянском, штрафы почем зря дерут. За дело и без дела. Вот я и маракую: ежели зазря штраф, то «Союз», значит, должон вступиться. За мастерового, значит. Чтоб повадки такой не было — обижать трудового человека. Вот такой параграф беспременно надо в устав.
— Точно! — азартно выкрикнул кто-то. — А иначе — рази ж «Союз» рабочий? Ежели за своего же брата, рабочего, не заступится?
— Тихо, тихо! — постучала ладонью по столику Журавская. — Говорите по очереди.
Она растерянно смотрела на Федора. Что это с ним? Всегда такой скромный, послушный. И рта не раскроет. А тут…
С удивлением глядели на Федора и его товарищи по цеху. Ишь как заговорил молчун!
— Штрафы к «Союзу» не имеют отношения, — стараясь не нервничать, пояснила Журавская. — Наш «Союз» — во имя культуры..
— Дозвольте сказать! — перебил ее кто-то, сидящий возле двери.
— Пожалуйста!
Это был «Федор Второй». Молодой. Тот, который весь в веснушках.
— А я вот насчет «экстры». Как же это получается? По закону — никто не имеет правов принудить меня «экстру» стоять. А на деле? Силком насилуют! А попробуй четырнадцать часов — у тисков, а потом еще шесть часов «экстры»!..
— Верно!
— В самую точку!
— Тут и бык не выдюжит! — раздались выкрики.
— Вот я и предлагаю, значит, — продолжал Федор. — Вписать в устав, что «Союз», значит, целиком и полностью против «экстры». И хозяевам наказать, чтоб к «экстре» не неволили…
— Это не имеет отношения к «Союзу», — уже не в силах скрыть раздражения, перебила Журавская. — Я ведь уже объяснила: наш «Союз» — во имя культуры.
— А я тоже для этой самой… для культуры, — сказал Федор. — Потому как ежели четырнадцать часов — у тисков, а потом еще «экстра» — какая ж, к шутам, культура? Где добыть время книжку почитать или, скажем, уроки в школу сделать? Вот и выходит: «экстра» — она самый что ни на есть первый супротивник культуры.
Князь Святополк-Мирский сидел в первом ряду. Слушал он эти речи вроде бы спокойно. Воспитан был князь. И выдержка большая. А сам тревожно думал.
«А ведь мы сюда отобрали только самых надежных. Не смутьянов, не крикунов. И уж если надежные такое говорят…»
А потом встал «Федор Третий» и заявил, что, по «его скромному разумению», в устав необходимо внести еще один пунктик: почему это рабочий обязан покупать все только в заводской лавке? А там торгуют гнильем. Надо, чтоб «Союз» боролся с этим…
И еще: пусть кого-либо из мастеровых «Союз» отрядит в городскую управу.
— Чтоб, значит, оборонял там наш рабочий интерес. Ну, и супротив всяких взяточников, казнокрадов.
Тут уж князь не выдержал.
На листке из блокнота он торопливо написал Журавской:
«Пора кончать этот митинг. Объявите, что ввиду позднего времени обсуждение устава откладывается».
Когда все три Федора наперебой рассказывали Бабушкину о собрании в доме Буша, Иван Васильевич слушал и посмеивался.
А самому вспоминалось, как позавчера сидели они в скверике под мелким, как пыль, дождем. Долго — часа два, не меньше! — пришлось ему убеждать, уламывать эту троицу. Особенно вот этого веснушчатого, «Федора Второго». Все спорил он, упрямился. Раз даже вскочил, чуть не убежал. Да, горяч! Нелегко было переубедить его, доказать. Но зато, говорят, у Буша он яростнее всех выступал.
— Скандал! Прямо, значит, форменный скандал! — усмехнулся «Федор Второй». — Тем и кончилось собраньице.
— Вот и ладно! — сказал Бабушкин. — Неповадно будет князьям затевать «Рабочие союзы»! Ишь, благодетели!
Подпольная типография
По спящему ночному переулку окраины Екатеринослава неторопливо шагал мужчина. Он пришел в тупичок и зажег спичку, чтобы разглядеть покоробленную железную вывеску. Потом спустился по нескольким шатким ступенькам и толкнул дверь.
В уши ему ударил ровный гул и шум машин. В тускло освещенном сводчатом подвале остро пахло керосином, краской, клеем.
Вошедшего, очевидно, уже ждали. К нему тотчас подскочил низенький парень с желто-рыжей, как подсолнух, головой, очень верткий и шустрый, несмотря на хромоту.
— Пойдемте, — сказал он и повел Бабушкина между двумя рядами машин в глубь типографии.
Возле печатного станка парень остановился и шепнул:
— Ну вот, товарищ Трамвайный. Осматривайте всласть, что душе угодно. Хозяина до утра не будет.
Он кивнул и, припадая на левую короткую ногу, исчез.
Бабушкин подошел к старику наборщику. Тот стоял возле «кассы» — большого плоского ящика, разделенного на множество клеток, — быстро, не глядя, брал нужные ему свинцовые буквы и вставлял их одну за другой в верстатку.
«Ловко!» — подумал Бабушкин.
Он отошел от «кассы», посмотрел, как готовят набор к печати, как фальцуют готовые листы, как брошюруют, обрезают, переплетают книги.
Но дольше всего Бабушкин стоял перед печатными машинами.
Каждое мгновение огромная умная машина один за другим выбрасывала готовые листы.
«Малость побыстрей, чем наш гектограф», — печально усмехнулся Иван Васильевич.
Революционеры печатали подпольные листки на самодельном гектографе. Это был плоский ящик, наполненный прозрачным, рыхлым желатином, похожим на студень. Прокламацию специальными чернилами писали на листке бумаги. Потом листок переворачивали и плотно прижимали исписанной стороной к желатиновому студню в ящике. На желатине получался перевернутый, как в зеркале, отпечаток текста.
Гектограф был готов к работе. Потом брали чистые листки, осторожно, аккуратно прижимали их к желатину — и на бумаге получались оттиски.
Прокламации выходили некрасивые, бледные; буквы, написанные от руки, прыгали вкривь и вкось, читать их было трудно. Да и попробуй «напечатай» на гектографе 2–3 тысячи листков! Сделаешь 70–80 прокламаций — желатиновый студень уже расползся. Надо снова писать текст на листке, снова «переводить» его на желатин…
И вот сейчас, наблюдая за быстрой работой печатных машин, Бабушкин снова, уже в который раз, приходил к выводу: хватит кустарничать, надо устроить настоящую подпольную типографию.
«Но где достать шрифт? — думал Бабушкин. — А главное — как самим построить печатный станок?»
Купить его, конечно, невозможно: и денег нужно уйму, и полиция сразу раскусит, зачем он понадобился простым рабочим.
Бабушкин снова оглядел печатную машину. Была она громоздкая, сложная, работала тяжело, с шумом, и каменный пол под нею содрогался.
«Не машина, а целая фабрика, — подумал Иван Васильевич. — Такую нипочем не спрячешь!»
Подпольщикам требовалось построить необычный станок: очень простой по конструкции, легкий (чтобы можно было переносить из одного помещения в другое), небольшого размера и к тому же не очень «шумный», чтобы он не вызвал подозрений полиции.
Целую ночь провел Бабушкин в типографии. Присматривался, набрасывал чертежи деталей, делал записи.
Под утро к нему подошел хромоногий парень.
— Светает… Скоро хозяин заявится, — шепнул он.
Бабушкин ушел. Шагая по просыпающимся улицам, думал:
«Хочешь не хочешь, а придется мне стать изобретателем!»