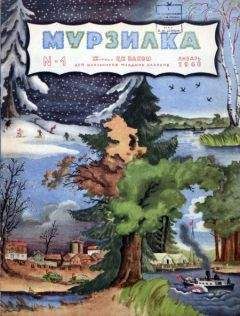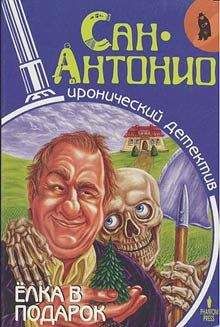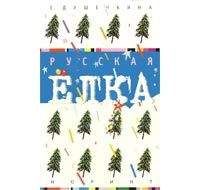Андрей Упит - Пареньки села Замшелого
Ешка все озирался по сторонам и никак не мог прийти в себя от изумления. В комнате были гладкие белые стены, гладкая белая печь, потолочные балки тоже белые и так высоко над головой, что, верно, и вытянутой рукой не достать. В Замшелом за какой-нибудь из балок непременно красовался бы пук розог, или мешочек с тмином, или пучок каких-нибудь целебных трав. А тут ничего этого и в помине не было, но зато на самой середке был подвешен резного дуба светильник в виде бруса с шестью подсвечниками и наполовину обгоревшими свечами — верно, остались еще с рождественских праздников. Но самым чудесным показался Ешке пол из сосновых досок, такой же сверкающий, как и стол с миской каши и деревянными ложками. Ешке было совестно за свои лапти, под которыми растекались хоть и небольшие, но на редкость противные лужицы талого снега. Андр сидел с раскрытым ртом, и взгляд его был прикован к одной поразительной вещи у противоположной стены. Там стоял шкап с часами, темно-коричневый, побуревший от старости и сознания собственного значения. За стеклянной дверцей виднеются цепочки с черными шишечками гирек, а позади них из стороны в сторону неустанно качается медный маятник, рыжий, как месяц сквозь дымку летней ночи. Но поразительней всего циферблат: по верху его пущена гирлянда огненно-красных роз и зеленых листьев, а внизу красуется, геройски выгнув грудь, поблекший петушок с широко раскрытым клювом.
Про часы в Замшелом слыхали, но никто их никогда не видывал. В волнении Андр все ждал: вот сейчас петушок запоет, но тот все не пел, а в те краткие мгновения, когда останавливалась Букстынева мельница, на весь дом решительно и гулко звучало: тик-так! До чего же это было чудно и торжественно!
Хозяин снял полушубок и разулся. Тряхнув седыми волосами, он опять покачал головой.
— Глупый вы, замшельцы, народ, — сказал он гостям. — Издавна про вас молва идет, а вот и своими глазами увидеть довелось. Мать, зови дочек к столу.
Хозяйка отворила до сих пор не замеченную гостями дверцу, за которой они увидели трех девушек в белых безрукавках и белых передниках. Одна вязала узорчатые варежки из тонкой шерсти, другая, пряла аккуратно уложенную льняную кудель, третья шила из беленого холста рубаху. Когда три сестра вошли в комнату, Ешка даже позабыл про лужицы под лаптями, часов для Андра как и не бывало, а Букстынь, вскочив со скамьи, без конца кланялся да кланялся, будто умом тронулся. Однако ж такая отменная учтивость оказала самое неожиданное воздействие: сестры переглянулись и разом зажали ладонями рот. А вышло так, что портной хоть и снял шапку, но совсем позабыл о невестином платке. От этого вид у него был препотешный. Спохватившись, он сорвал платок с головы и сунул его в карман, но поздно: даже за столом, хлебая кашу, девушки вдруг ни с того ни с сего зажимали ладонью рот и фыркали.
Каша была невиданно белая и вкусная, а в особенности когда из деревянного ведерка подлили туда ложки две простокваши. Привыкшие все кушанья есть из одной плошки, замшельцы опешили, когда хозяйка круглым деревянным черпаком налила каждому по отдельности в коричневую глиняную миску. Ложки были совсем новые, будто первый раз пошли в ход, острый край приятно щекотал губы, а язык ощущал кисловатый привкус березы. На черенках выжжены до того красивые узоры, что Ешка непременно разглядел бы их как следует, если бы эти три, в белых передниках, не поглядывали с лукавой усмешкой на его неловкие руки.
Смущение Букстыня вскоре как рукой сняло, и он трещал, не забывая, однако, угощаться творогом из туеса и маслом из лубяного коробка. Не только язык его, но и сам-то он будто был без костей; вся его фигура изгибалась в разные стороны то перед одной, то перед другой, то перед третьей сестрой, особенно перед младшей. И почему-то разговор он вел все о Ципслине и хулил свою невесту на чем свет стоит, так что Ешка разок-другой недоуменно хмыкнул.
У той, что вязала рукавицы, были тонкие, гибкие пальцы.
Букстынь тут же пожаловался:
— А у моей Ципслини толстые, как колбаски. Сама как щепка, а пальцы — во какие!
— А она вяжет? — спросила вязальщица.
Портной запнулся:
— Нет, ей ни к чему — у нее мать вяжет.
— Ну, стало быть, от этого, — ответила вязальщица и усмехнулась.
У пряхи были сильные, ладные ноги.
— Такими ножками только и плясать! — восхищался Букстынь. — Вот кабы моей Ципслине такие ноги! А она все хнычет: «Ой, постолы спадают, ой, чулки кусаются!»
— А она прядет? Ногой на подножку нажимает?
— Нет, шерсть у нее мать прядет, а паклю — соседка.
— Ну, стало быть, от этого, — ответила пряха и покачала головой.
На швее была кофточка с широкими, ослепительной белизны рукавами, расшитыми на запястьях зелеными и красными узорами.
— А у Ципслини рукава серые, — вздохнул Букстынь. — Не поймешь даже, чистые или грязные.
— А лен она сама мочит, сама треплет, сама белит?
— Нет. Речная вода мочит, ветер треплет, а солнце белит.
— Ну, стало быть, от этого, — ответила швея и поморщилась.
Букстынь и вовсе скривился.
— Ну на что мне этакая? — заохал портной. — Хочу такую, что сама белит.
Тут уж Ешка кинул ложку на стол.
— Чего захотел? — грозно переспросил паренек. — Какая «этакая»?
Букстынь прикусил язык и снова погрузил свой широкий нож в коробок с маслом.
— Что ты, шурин, голубчик! Да разве ж я что? Я ж и вовсе ничего…
Хозяйка встала из-за стола и качнула головой:
— Что у кого есть, при том и оставаться нужно.
Хозяин тоже качнул головой:
— Кто на Белом хуторе живет, тому и оставаться, кто из Замшелого, тому и возвращаться туда. Земля, она всюду одна, одно солнце, и ветер, и дождь, сушь и жара, снег да стужа — что же из этого? Коли жарко, скидывай одежку, а мороз подирает — подымай воротник. Вот оно как, сынки! А пока идите-ка спать.
Пока Букстынь, прощаясь, отвешивал поклоны, Ешка и Андр прошли на другую половину. Комнатка там была поменьше, но такая же белая и теплая. У стены для гостей настелена мягкая ячменная солома, поверх нее три простыни, три одеяла в зеленую полоску и три подушки. Пареньки даже оробели: в Замшелом все спали на мешках, набитых гороховиной, у Букиса и Таукисов, правда, сенники набивали льняными обмолотками, да и то в тот год, когда уродится особенно кудрявый лен и после молотьбы останется вдоволь очеса. Сразу же за дверьми на крюке висели пряди пеньки, на табуретке сидел старик и вил их при свете свечи, поставленной высоко на полке, почти под самым потолком, чтобы виднее было и чтобы ненароком не подпалить пеньку. С виду старичок был малость помоложе хозяина и не такой улыбчивый и радушный, но и не то чтобы сердитый.
Как только Букстынь, переступив порог, хотел было рассказать, кто они, откуда и куда едут, он прервал портного на полуслове:
— Из Замшелого, это же сразу видать. Снимай, портной, полушубок — да на боковую… Вы, ребятки, верно, тоже прозябли до костей?
Что и говорить, прозябли они и устали — дальше некуда. Сам умелый веревочник, Ешка не мог глаз оторвать от руки старика, в которой так ловко вертелся бурый, гладко отполированный от времени ивовый крючок, а веревка, скользкая как шелк, укладывалась на нем виток за витком.
— Скажи-ка, дяденька, а как это она у тебя такая ровная получается? — спросил он у старичка. — У меня всегда с узелками.
— А потому, что плохо кострика выбита и петля чересчур свободная, вот и прядка выходит рыхлая. А еще оттого, что в руке сноровки маловато. А приходит эта сноровка, как волоса начнут седеть.
— Ага! Так, значит, все дело в волосах? — удивился Ешка.
— Да, сынок, в волосах, — даже не улыбнувшись, ответил витейщик.
Букстынь не мог улежать спокойно; он высунулся из-под одеяла и пошарил рукой по стене — ни щелки, ни мха между бревнами нельзя было нащупать.
— Слышь, дяденька, — спросил он, — а где ж у вас тараканы живут?
— Они у нас нигде не живут, — ответил старик. — Каждую весну мы все щелки забеливаем, где же им селиться?
— Ну и диво! — поразился портной. — Так ежели у вас тараканов нету, чем же вы зимой кур кормите?
Старик как-то странно улыбнулся, больше глазами, чем ртом:
— Ячменем, сынок. По осени один закром засыпаем мелким зерном, на всю зиму хватает.
— А из чего же тогда у вас кашу варят? — допытывался Букстынь, все выше приподнимая голову.
— Из остальных трех закромов берем — всего у нас в клети четыре.
— Четыре закрома с ячменем! — прошептал Букстынь, опускаясь на подушку. — Слышь, Андр? Ну и чудеса! Вот так чудеса!
— Так вам, дяденька, значит, хватает ячменя и на пиво до нового урожая? — робко осведомился Андр.
— А мы пиво вовсе не варим, — ответил старик, откладывая навитый крючок и берясь за другой. — У нас в колодце вода — будто два раза цежена, а кому тепленького захочется, тот пьет молоко, — в хлеву у нас двенадцать коров. А уж ежели покислее захочется, на то припасен бочонок перебродившего березового соку.