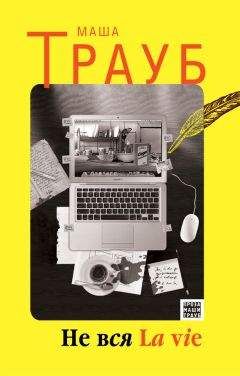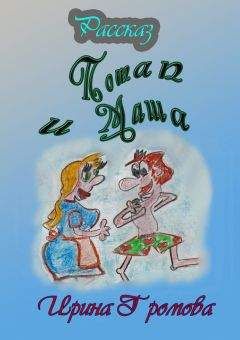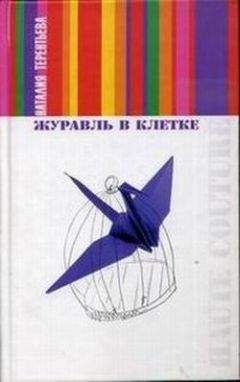Федор Достоевский - Детям (сборник)
Она поднялась наконец уходить; вдруг вошел сам Тушар и с дурацки-важным видом спросил ее: «довольна ли она успехами своего сына?» Мама начала бессвязно бормотать и благодарить; подошла и Антонина Васильевна. Мама стала просить их обоих: «не оставить сиротки, все равно он что сиротка теперь, окажите благодеяние ваше…» – и она со слезами на глазах поклонилась им обоим, каждому раздельно, каждому глубоким поклоном, именно как кланяются «из простых», когда приходят просить о чем-нибудь важных господ. Тушары этого даже не ожидали, а Антонина Васильевна, видимо, была смягчена и, конечно, тут же изменила свое заключение насчет чашки кофею. Тушар, с усиленною важностью, гуманно ответил, что он «детей не рознит, что все здесь его дети, а он – их отец, что я у него почти на одной ноге с сенаторскими и графскими детьми, и что это надо ценить», и проч., и проч. Мама только кланялась, но, впрочем, конфузилась, наконец обернулась ко мне и со слезами, блеснувшими на глазах, проговорила: «Прощай, голубчик!»
И поцеловала меня, то есть я позволил себя поцеловать. Ей, видимо, хотелось бы еще и еще поцеловать меня, обнять, прижать, но совестно ли стало ей самой при людях, али от чего-то другого горько, али уж догадалась она, что я ее устыдился, но только она поспешно, поклонившись еще раз Тушарам, направилась выходить. Я стоял.
– Mais suiver donc votre mère, – проговорила Антонина Васильевна, – il n’a pas de cæur cet enfant![21]
Тушар в ответ ей пожал плечами, что, конечно, означало: «недаром же, дескать, я третирую его как лакея».
Я послушно спустился за мамой; мы вышли на крыльцо. Я знал, что они все там смотрят теперь из окошка. Мама повернулась к церкви и три раза глубоко на нее перекрестилась, губы ее вздрагивали, густой колокол звучно и мерно гудел с колокольни. Она повернулась ко мне и – не выдержала, положила мне обе руки на голову и заплакала над моей головой.
– Маменька, полноте-с… стыдно… ведь они из окошка теперь это видят-с…
Она вскинулась и заторопилась:
– Ну, Господи… ну, Господь с тобой… ну, храни тебя ангелы небесные, Пречестная Мать[22], Николай Угодник[23]. Господи, Господи! – скороговоркой повторяла она, все крестя меня, все стараясь чаще и побольше положить крестов, – голубчик ты мой, милый ты мой! Да постой, голубчик…
Она поспешно сунула руку в карман и вынула платочек, синенький клетчатый платочек с крепко завязанным на кончике узелочком, и стала развязывать узелок… но он не развязывался…
– Ну, все равно, возьми и с платочком, чистенький, пригодится, может, четыре двугривенных тут, может, понадобятся, прости, голубчик, больше-то как раз сама не имею… прости, голубчик.
Я принял платочек, хотел было заметить, что нам «от господина Тушара и Антонины Васильевны очень хорошее положено содержание и мы ни в чем не нуждаемся», но удержался и взял платочек.
Она наконец ушла. Апельсины и пряники поели еще до моего прихода сенаторские и графские дети, а четыре двугривенных у меня тотчас же отнял Ламберт; на них накупили они в кондитерской пирожков и шоколаду и даже меня не попотчевали.
Прошли целые полгода, и наступил уже ветреный и ненастный октябрь. Я про маму совсем забыл. О, тогда ненависть, глухая ненависть ко всему уже проникла в мое сердце, совсем напитала его; я хоть и обчищал щеткой Тушара по-прежнему, но уже ненавидел его изо всех сил и каждый день все больше и больше. И вот тогда, как раз в грустные вечерние сумерки, стал я однажды перебирать для чего-то в моем ящике и вдруг, в уголку, увидал синенький батистовый платочек ее, он так и лежал с тех пор, как я его тогда сунул. Я вынул его и осмотрел даже с некоторым любопытством; кончик платка сохранял еще вполне след бывшего узелка и даже ясно отпечатавшийся кругленький оттиск монетки; я, впрочем, положил платок на место и задвинул ящик. Это было под праздник, и загудел колокол ко всенощной[24]. Воспитанники уже с после обеда разъехались по домам, но на этот раз Ламберт остался на воскресенье, не знаю, почему за ним не прислали. Он хоть и продолжал меня тогда бить, как и прежде, но уже очень много мне сообщал и во мне нуждался. Мы проговорили весь вечер о лепажевских пистолетах, которых ни тот, ни другой из нас не видал, о черкесских шашках и о том, как они рубят, о том, как хорошо было бы завести шайку разбойников… В десять часов мы легли спать; я завернулся с головой в одеяло и из-под подушки вытянул синенький платочек: я для чего-то опять сходил, час тому назад, за ним в ящик и, только что постлали наши постели, сунул его под подушку. Я тотчас прижал его к моему лицу и вдруг стал его целовать. «Мама, мама», – шептал я, вспоминая, и всю грудь мою сжимало, как в тисках. Я закрывал глаза и видел ее лицо с дрожащими губами, когда она крестилась на церковь, крестила потом меня, а я говорил ей: «Стыдно, смотрят». «Мамочка, мама, раз-то в жизни была ты у меня… Мамочка, где ты теперь, гостья ты моя далекая? Помнишь ли ты теперь своего бедного мальчика, к которому приходила… Покажись ты мне хоть разочек теперь, приснись ты мне хоть во сне только, чтоб только я сказал тебе, как люблю тебя, только чтоб обнять мне тебя и поцеловать твои синенькие глазки, сказать тебе, что я совсем тебя уж теперь не стыжусь, и что я тебя и тогда любил, и что сердце мое ныло тогда, а я только сидел, как лакей. Не узнаешь ты, мама, никогда, как я тебя тогда любил! Мамочка, где ты теперь, слышишь ли ты меня? Мама, мама, а помнишь голубо́чка, в деревне?..»
Илюшечка
(из романа «Братья Карамазовы»).
© Рис. А. Парамонова, наследники
1. Школьники
…Как только Алеша Карамазов прошел площадь и свернул в переулок, чтобы выйти в Михайловскую улицу, параллельную Большой, но отделявшуюся от нее лишь канавкой (весь город наш пронизан канавками), он увидел внизу пред мостиком маленькую кучку школьников, все малолетних деток, от девяти до двенадцати лет, не больше. Одни расходились по домам из класса со своими ранчиками за плечами, другие с кожаными мешочками на ремнях через плечо, одни в курточках, другие в пальтишках, а иные и в высоких сапогах со складками на голенищах, в каких особенно любят щеголять маленькие детки, которых балуют зажиточные отцы. Вся группа оживленно о чем-то толковала, по-видимому, совещалась. Алеша никогда не мог безучастно проходить мимо ребяток, в Москве тоже это бывало с ним, и хоть он больше всего любил трехлетних детей или около того, но и школьники лет десяти-одиннадцати ему очень нравились. А потому как ни озабочен он был теперь, но ему вдруг захотелось свернуть к ним и вступить в разговор. Подходя, он вглядывался в их румяные, оживленные личики и вдруг увидал, что у всех мальчиков было в руках по камню, у других так по два. За канавкой же, примерно шагах в тридцати от группы, стоял у забора и еще мальчик, тоже школьник, тоже с мешочком на боку, по росту лет десяти, не больше, или даже меньше того, – бледненький, болезненный и со сверкавшими черными глазками. Он внимательно и пытливо наблюдал группу шести школьников, очевидно его же товарищей, с ним же вышедших сейчас из школы, но с которыми он, видимо, был во вражде. Алеша подошел и, обратясь к одному курчавому, белокурому, румяному мальчику в черной курточке, заметил, оглядев его:
– Когда я носил вот такой, как у вас, мешочек, так у нас носили на левом боку, чтобы правою рукой тотчас достать; а у вас ваш мешок на правом боку, вам неловко доставать.
– Да он левша, – ответил тотчас же другой мальчик, молодцеватый и здоровый, лет одиннадцати. Все остальные пять мальчиков уперлись глазами в Алешу.
– Он и камни левшой бросает, – заметил третий мальчик. В это мгновение в группу как раз влетел камень, задел слегка мальчика-левшу, но пролетел мимо, хотя пущен был ловко и энергически. Пустил же его мальчик за канавкой.
– Лупи его, сажай в него, Смуров! – закричали все. Но Смуров (левша) и без того не заставил ждать себя и тотчас отплатил: он бросил камнем в мальчика за канавкой, но неудачно: камень ударился в землю. Мальчик за канавкой тотчас же пустил еще в группу камень, на этот раз прямо в Алешу, и довольно больно ударил его в плечо. У мальчишки за канавкой весь карман был полон заготовленными камнями. Это видно было за тридцать шагов по отдувшимся карманам его пальтишка.
– Это он в вас, в вас, он нарочно в вас метил. Ведь вы Карамазов, Карамазов? – закричали, хохоча, мальчики. – Ну, все разом в него, пали!
И шесть камней разом вылетели из группы. Один угодил мальчику в голову, и тот упал, но мигом вскочил и с остервенением начал отвечать в группу камнями. С обеих сторон началась непрерывная перестрелка, у многих в группе тоже оказались в кармане заготовленные камни.
– Что вы это! Не стыдно ли, господа! Шестеро на одного, да вы убьете его! – закричал Алеша.
Он выскочил и стал навстречу летящим камням, чтобы загородить собою мальчика за канавкой. Трое или четверо на минутку унялись.