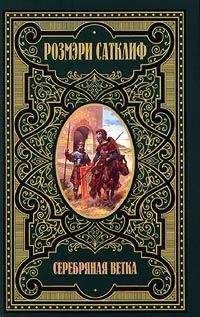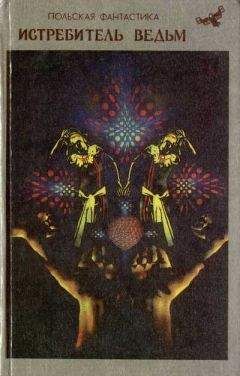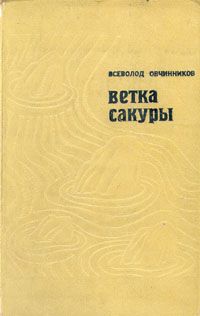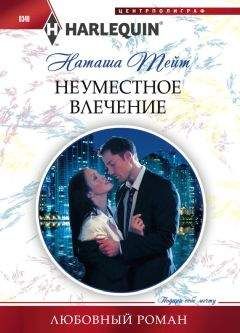Зоя Воскресенская - Консул
На углу сквера, у круглой тумбы, женщина остановилась. Внимание ее привлекла афиша с черным, до боли знакомым силуэтом. Пушкин!.. "Сидеть!" — приказала она овчарке, и на этот раз собака повиновалась. Женщина сдвинула на затылок мохнатую шапку и с изумлением шепотом читала:
— "В Народном доме 10 февраля 1937 года состоится торжественный вечер, посвященный 100-летию со дня смерти великого русского поэта А. С. Пушкина. Выступают солисты Большого театра Советского Союза Вера Давыдова и Сергей Лемешев. Билеты продаются в кассе".
Советские актеры в Финляндии! Впервые за все эти годы.
— Джулли, домой! — скомандовала хозяйка, и собака послушно повела ее.
Женщина отперла ключом дверь в квартиру, помещавшуюся на первом этаже старого двухэтажного дома.
Квартира производила странное впечатление. На кухне главенствовал большой медный, в зеленых пятнах самовар. На плите стояли черные чугунки, которых в Финляндии и не встретишь. В углу висела икона, и перед ней раскачивалась на потемневших от времени цепочках тяжелая лампада.
Женщина сбросила шубу и шапку и, маленькая, тоненькая, в джемпере и черной юбке, стала похожа на мальчика-подростка, если бы не лицо, лицо отцветающей женщины с обозначившимися морщинками возле рта и с темными глазами, в которых, казалось, навсегда погасла трепетная мысль любознательности, интереса к жизни. Она побежала через столовую, уставленную тяжелой старой мебелью красного дерева, в спальню. Распахнула дверцы огромного гардероба, где висело несколько платьев и пышных юбочек — балетных пачек. Женщина забралась внутрь гардероба и стала вышвыривать на кровать одно за другим платья. Это — малиновое шелковое — не годится, давным-давно вышло из моды; это — бархатное со шлейфом — все залоснилось; голубое из шифона еще приличное, но не для зимнего концерта. Села на дно гардероба, уткнула острый подбородок в колени, тяжело вздохнула, а потом выпрямилась и кошачьим прыжком перелетела из гардероба в кровать, утонула в перине и, рыдая, стала колотить кулаками эту перину, словно она была повинна в ее несчастной судьбе. Напольные часы в столовой гулко и медленно пробили шесть раз.
— О боже, сейчас явится Сам, а у меня и кровать не убрана и обед не готов.
Она водворила на место платья, подползла под перину, занимавшую двухспальную кровать, и, выгибаясь, принялась спиной взбивать перину, пока не оформила ее в пышный каравай. Накинула шелковое голубое покрывало и. бегая вокруг кровати, оправляла его.
На кухне заглянула в чугунки. Есть вчерашние щи. Для Самого хватит, а она никаких супов не ест. Гречневая каша в другом чугунке. Хватит на обоих и останется еще для Джулли. Теперь поджарить для Самого жирную — бр-р-р! — свиную котлету. Женщина раскрыла оконную раму и вынула завернутое в бумагу мясо.
Нащепала лучины, подожгла ее, сунула потрескивающий пучок под дрова в плиту. Смолистый запах распространился по кухне. Ну, а пока разгорятся дрова и нагреется плита, можно заняться тренировкой.
В спальне переоделась. Натянула трико и полинявшую розовую тунику, надела балетные туфли и, взявшись рукой за спинку кровати, стала проделывать каждодневные упражнения, все еще надеясь… Надеясь на что?
Вытянулась в струнку на пальцах ноги, описала второй полукруг и застыла. Стала вспоминать:
… Одной ногой касаясь пола,
Другою медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит…
Но для прыжков не было места ни в тесной спальне, ни в столовой. Села на спинку кровати, свесила ноги.
"Неужели все это было? И никогда не повторится? Нет. Никогда. Теперь до самой смерти — самовар, щи. каша, перина, прилавок в антикварной лавке среди керосиновых ламп, фарфоровых пасхальных яиц, икон. лампадок, разрозненных кузнецовских чашек. Покупатели заглядывают редко. Заходят бывшие царские и белые офицеры, нечистоплотные, часто небритые. Судачат, вздыхают по старой матушке-России, потеряв надежду когда-либо вернуться туда на белых победных конях. Уличают один другого в трусости, вспоминают скандальные истории. А старой России она не знает. Знает новую, советскую, на которую они клевещут.
Первое время она протестовала, уличала их во лжи. Но потом Сам однажды сказал ей, что если она будет у него в лавке разводить большевистскую агитацию, он выгонит ее. И ей останется одно — улица.
А было время… Тридцатые годы. Она, Катя, выпускница хореографического училища. Белая ночь. На Кате белое платье, которое мать переделала из своего, свадебного, на ногах модные "молочные" туфли. Катю приняли в балет Мариинского театра. В кордебалет. Пока. Конечно, мечтала быть солисткой, "звездой". Но путь к звездам трудный, ох какой трудный, говорила ей мать. Мама — портниха театральной мастерской. Отца Катя не помнит. А нужду она познала очень рано. Вырваться в "звезды" было ее мечтой. И вот однажды в ресторане "Астория" познакомилась с ним. Он приехал из Финляндии в Ленинград на пушной аукцион. Пришел в театр. Прислал ей, балерине кордебалета, корзину роз. Такие розы получали от зрителей только Дудинская, Семенова — самые яркие звезды балета. Посыпались подарки — французские духи, фильдеперсовые чулки, конфеты. Каждый день назначал ей свидания. Уверял, что балерина с таким дарованием могла бы украсить собою сцены Гранд опера в Париже, Ла Скала в Милане, Оперный театр в Вене… Предложил руку, сердце и все сцены Европы. В качестве задатка надел ей на пальчик ажурный золотой перстень с бриллиантом. И Катя сдалась. Вышла за него замуж. Поехала за мужем в Финляндию. Оставила мать наедине с отчаянием. Она не верила в надежды Кати, что ее ждет слава, не захотела даже взглянуть на жениха: годится Кате в отцы, увозит дочь неизвестно куда, на какую долю. И что же? В финскую оперу не приняли. Нашли, что не обладает выдающимися данными, а в кордебалете своих полно. О поездке в Париж нечего было и думать. Муж оказался не миллионером, как представляла себе Катя, а коммивояжером, разъездным торговым агентом пушной фирмы. На комиссионные, которые получил от фирмы за приобретение партии мехов в Ленинграде, купил Кате бриллиантовое кольцо. Фирма вскоре разорилась. Сам, как назвала его Катя, стал заниматься тем, что скупал и перепродавал старье. Его антикварная лавка давала возможность еле сводить концы с концами. Часто не было денег, чтобы купить мясо. Единственной ценной вещью в доме было Катино бриллиантовое кольцо. Даже собаку Джулли Сам завел ради того, чтобы она оберегала Катю и кольцо. Джулли никому не позволяла приблизиться к хозяйке. Катя не могла даже поздороваться за руку: Джулли тотчас обнажала свои грозные желтые клыки и вскидывала лапы на плечи незнакомца, ожидая команды: "Взять!" Только эту команду овчарка могла выполнить беспрекословно — взять мертвой хваткой за горло. "Береги кольцо, — не раз напоминал Сам, — дорогое кольцо, в черный день может выручить". Оказывается, и кольцо было подарено "на черный день".
В столовой иногда собирались гости. Тогда Сам просил Катю танцевать. Гости раздвигали тяжелую мебель, хозяин заводил патефон, Катя бежала в спальню, надевала пышную белую пачку, диадему из блестящих фальшивых камней, звучала музыка, и Катя танцевала умирающего лебедя. Здесь, среди дородных дам и их не менее погрузневших мужей, она чувствовала себя королевой, "звездой". Мужчины гулко аплодировали. "Очень мило, очень мило", — снисходительно говорили дамы и тут же вспоминали "несравненную" Павлову и "блистательную" Кшесинскую, сумевшую обворожить самого великого князя. Катя понимала, что всерьез эти дамы ее таланта не принимают. Срывала с себя в спальне диадему и пачку, надевала черное бархатное платье, в котором она казалась еще тоньше — на зло этим дамам, — а потом говорила мужу, что никогда не будет больше танцевать перед этими "коровами". И вместе с тем Катя понимала, что теряет упругость мышц и технику, что у нее начинают выворачиваться пятки, болят суставы, с трудом получается "шпагат", а прыжки потеряли легкость и высоту. Старость в двадцать пять лет! В двадцать пять лет без мечты, без будущего, без восторженного чувства любви. Все прошло мимо нее. Самого она не любила. Катя, кажется, не умела активно ни любить, ни ненавидеть. У нее не было привязанностей, она сама была накрепко привязана поводком к Джулли, к Самому, к этой серой, безрадостной, однообразной жизни. Застыла в каком-то оцепенении. Но червяк протеста, разочарования точил ее сердце. Когда мужчины собирались сыграть в пульку или вели какие-то свои разговоры, муж отсылал ее. Она забиралась в спальню, открывала зеленую крышку патефона, на внутренней стороне которой был нарисован граммофон с широкой голубой трубой и рядом с граммофоном бело-желтый пес. "Хиз мастерс войс" — "Голос его хозяина" — называлась марка патефона. Катя крутила ручку патефона, надевала на блестящий стерженек черный круг пластинки, который начинал вращаться под неподвижной иглой мембраны, и иголка выцарапывала из пластинки, выцарапывала из сердца Кати пронзительно горестные песни Вертинского, в которых была и нежная тоска, и вычурная ирония. "Вы так мило танцуете, в вас есть шик…" — Кате казалось, что это он поет ей. Поет о маленькой балерине и о том, как, стоя на берегу речки, он тоскует по родине. Катя плакала и особенно остро чувствовала свое одиночество, обреченность. Связей с родиной не было. Первое время писала письма своим подружкам по училищу. Не все отвечали ей, а потом и те, которые любопытствовали, как же сложилась ее судьба, тоже перестали писать. Мать писала, умоляла вернуться. Не все ее письма попадали в руки Кате. И вот уже второй год от матери нет вестей. Жива ли она?..