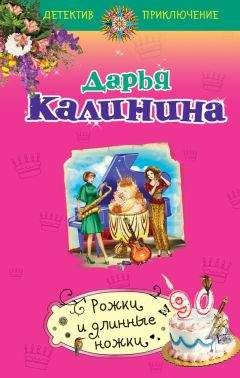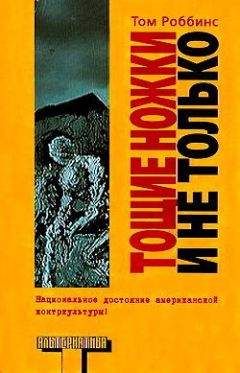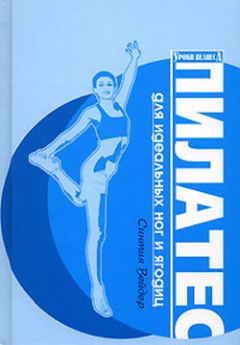Василий Авенариус - Сын атамана
Те отвесили по низкому поклону и, взявшись под руки, вышли вон.
— А ты, пане, подписываешь, не читая? — не утерпел Курбский выразить свое удивление.
Судья только отмахнулся пером.
— Пытался читать, да хуже! Кто писал, тот и отвечай.
В это время вошел и сам начальник канцелярии, Мандрыка.
— Что угодно еще твоей милости? — спросил он Курбского. — Али в договоре у нас не все указано?
— Нет, я по своему делу, — отвечал Курбский. — Хотелось мне узнать у тебя, пане: с Волыни на Москву большой тракт ведет мимо каких городов?
Пан писарь тонко усмехнулся, а затем ответил с притворным вздохом:
— Белгород от твоего тракта в стороне останется! Курбский слегка покраснел и насупил брови.
— О Белагороде я, кажись, не спрашивал.
— А я так чаял, прости, что как ты после отъезда дочки Самойлы Кошки зело затуманился…
— Об ней я не тревожусь, — сухо перебил Курбский, — при ней и родитель ее, и Савка Коваль. Нужно мне знать про Новгород-Северский…
— А у тебя там сродственники?
— Не то, чтобы.
— Так тоже сердечушко по тебе разрывается?
— Точно уличенный в самых затаенных своих чувствах, Курбский вспыхнул до ушей.
— Да мне и знать-то вовсе не для чего… — пробормотал он и без поклона удалился.
На что ему, в самом деле, знать наперед, суждена ли ему еще встреча с той, которая ему на свете всех дороже? От судьбы своей все равно не уйдешь.
И гнал он от себя мысль о будущем; но иная мысль что муха: как привяжется, так гони, не гони — вьется около тебя, не дает покою, да и все тут!.. Разве пойти, Данилу проведать?
На дворе уже стемнело, и на сечевой площади пылало несколько костров, вокруг которых шло свое пирование. Но оно утратило уже прежнее оживленье: беседа шла вяло, костенеющим языком, песни пелись нескладно и обрывались зевотой или просто оттого, что поющий падал без сознания и засыпал мертвецким сном. В поисках за Данилой Курбский переходил от костра к костру и не раз должен был шагать через таких живых мертвецов.
Так он добрался до ворот предместья. Как и в первый раз, стояла здесь стражи из базарных молодцов, вооруженных дубинками. Один из них узнал молодого князя, пожелал ему доброго вечера и затем прибавил, указывая рукой на крамный базар, где светились также огни и мелькали тени:
— А тебе бы, пане добродию, поунять маленько твоего Данилку. Слышишь, как разгулялся? Голосом пляшет и ногами поет.
Со стороны огней, действительно доносились бренчание струн и зычные возгласы Данилы.
— Так зачем же вы его пропустили? — спросил Курбский.
— Казак-прощальник — как его не пропустишь? Всех их гульба одолела, а он всякому озорству первый заводчик. Того гляди, с товарищами все равно бы прорвался, разнес весь базар.
Курбский направился на середину крамного базара, где вокруг пылающего костра широким кругом толпились любопытные. Когда он протискался вперед к самому костру, ему представилась такая картина: из разбитой бочки по земле разлилась целая лужа блестящего черного дегтя, на краю лужи стояли три бандуриста и с азартом, стараясь перещеголять один другого, играли плясовую; а в самой луже отплясывал гопака прощальник Данило — отплясывал с гиком и взвизгами, как бесом одержимый. На полученные от Курбского деньги он обзавелся всего три дня назад новым праздничным нарядом. Но теперь и красные сафьяновые сапоги, и синие шаровары, и кармазиновый жупан были у него сплошь забрызганы дегтем. Увидев своего молодого благодетеля и радельца, он сорвал с головы свою смушковую шапку, отвесил земной поклон и, зачерпнув шапкой из лужи дегтю, налил его себе на обритое темя.
— Не обессудь прощальника, милый княже! Стал я быдлом и всенародне каюсь, каюсь и главу пеплом посыпаю!
Толпа кругом заржала, загоготала.
— Ай, да пепел! И рожу и одежду себе замазал!
— Да на что мне она, ваша одежда? Яко благ, яко наг, яко нет ничего! Пропадай совсем!
И раз, два — он сорвал с плеча оба рукава жупана, а затем полетела клочьями наземь и остальная его одежда, пока он не остался в одних сапогах.
— А что же сапоги-то? — потешались окружающие. В ответ швырнул он в толпу сперва один сапог, потом другой…
Всякий прощальник, как слышал Курбский, принимал монашеский чин в Киеве, но, сопровождаемый всегда целой свитой отпетых «гультяев», он всю дорогу туда «юродствовал», пока за ним не закрывались навсегда ворота Межигорского Спаса.
Каково же было изумление Курбского, когда на следующее утро прощальник Данило явился к нему совершенно трезвый в своем прежнем дорожном платье и просил разрешения проводить его княжескую милость хотя бы до Самарской обители.
— Да когда же ты в Киев? — спросил Курбский.
— А на что мне в Киев, — отвечал Данило, — коли можно утихомириться и в своей родной святыне, у отца Серапиона?
— Доброе дело. Но дорогою туда ты, по обычаю, будешь гулять с товарищами; так не вышло бы соблазна всему войску?
— Нет, милый княже, в голове у меня и то еще шмели звенят. Гулять мне не в охотку, и не потому, чтобы все денежки были изведены… (Он забренчал деньгами в шароварах). Есть чем звякнуть, так можно и крякнуть…
— Но откуда они у тебя? — спросил Курбский. — Я сам хотел было дать тебе, сколько требуется, на дорогу с приятелями, но все, что было при мне, ушло на угощение Сечи — даже войсковой казне в долгу еще остался…
— Слышал, Михайло Андреевич, но слышал ноне от писаря тоже, что долг тот войско с тебя уже сложило, да и меня оно не обошло: грошами на дорогу наделило, чтобы не токмо употчеваться всласть, а и Божьей церкви не забыть, да и нищей братии расточить. Но доколе я буду при тебе, я капли хмельного в рот не возьму.
— Так ли?
— Как Бог святой! Чтобы мне лопнуть на том свете! И Данило на этот раз остался в своем слове тверд. Петруся Коваля (брата Савки), вступившего было в обязанности чура, он на время совсем отстранил и затем до реки Самары служил Курбскому усерднее, чем когда-либо прежде. Когда же тут, на берегу Самары, войско сделало привал, он окончательно распростился со своим господином. Прослезившись, он обнял его колени, но Курбский поднял его с земли и расцеловался с ним трижды накрест по-братски.
— Скорбно мне тоже расставаться с тобой, Данило, — сказал он. — Провожу-ка я тебя до ворот монастырских…
— Оставайся, княже, оставайся… Не то у меня духу не хватит позвать с собой братчиков. Гей вы, паны братчики, на коней! — гаркнул он, вскакивая на коня, и замахал на прощанье шапкой всему остальному товариству, — бувайте, панове, здорови, як волы та коровы! Бубликом хвост завертайте, тай нас не забувайте! Музыка, грай!
Братчики-гуляки заранее уже изготовились к проводам прощальника: все были в своих праздничных нарядах, у каждого на перевязи через плечо по боклаге (бочонку), а в руке по ковшу.
Откуда не возьмись и гусляры, и барабанщики. И двинулся прощальный поезд: впереди сам прощальник, за ним музыка, за музыкой братчики, а справа, слева и вдогонку целая ватага нищих и зевак; нищим прощальник щедрою рукой кидал свои гроши, а зевак братчики с коней своих не менее щедро угощали из боклаг горилкой и брагой…
Запорожца Данилу Дударя Курбский никогда более уже не увидел. Но еще под вечер того же дня он, вместе с кошевым атаманом и выборным от войска, побывал на вечерне в Самарской пустыни и заметил тут, в отдаленном притворе, коленопреклоненного в простой власянице: то был вновь принятый в обитель раб Божий Даниил.
По окончании богослужения настоятель, отец Серапион, благословил еще войско запорожское, в лице его выборных, на предстоящее им ратное дело, а затем подошел к Курбскому.
— Здорово, сыне милый! Премилостивый Бог и за рубежом тебя, вижу, не оставил. Благодарение же и хвала Ему во Святой Троице. Оружие, что отнято было у тебя под Ненасытцем каменниками, доставлено к нам в обитель от имени старика Якима. В бою тебе еще пригодится.
Когда же тут Курбский выразил желание подойти к Даниле, отец игумен наотрез в этом отказал:
— Счеты его с миром сведены! Совлекшись ветхого Адама и окован веригами железными, он в смиренномудрии и покорстве судьбе скорбит и стенает. Об нем не печалуйся: я буду блюсти, чтобы окаянному не за-владать опять его душой, а дабы он не забывал тебя, своего господина, ему поручено от меня ходить за твоим конем Вихрем…
К рассказанному о «сыне атамана» остается добавить очень немного.
Как узнал Курбский несколько лет спустя от заезжего в Москву запорожца, Груша Кошка вышла замуж за Савку Коваля и переселилась с ним на его родину — в г. Канев, куда взяла с собой и своего старика-отца; инок же Даниил, в мире носивший прозвище Дударь, дослужился в Самарской обители до звания отца-чашника.
В украинском городе Канев и поныне показывают гробницу кошевого атамана запорожского, Самойлы Кошки, как и поныне на Украине кобзари поют стародавнюю думу про этого славного вояку.