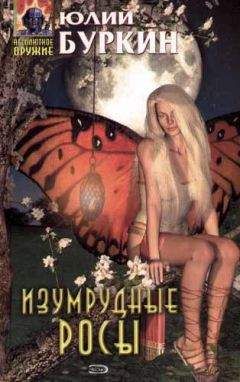Илья Туричин - Закон тридцатого. Люська
— Не следили, вот и не замечали, — ехидно вставил Александр Афанасьевич. — А впрочем, может быть, она и чиста. И даже скорей всего — чиста!
Петр Анисимович метнул на него недовольный взгляд.
Александр Афанасьевич умолк, будто поперхнулся.
— А за Шагаловым ты ничего не замечала? — снова обратился Петр Анисимович к Лене.
Лена съежилась. Перехватило горло от волнения. Она не понимала, чего от нее хотят, но чувствовала, что расставлены сети, невидимые сети, и ее заманивают в них.
— Что ж ты. Колесникова? Я с тобой разговариваю, как коммунист с комсомолкой, откровенно.
— Я… я не… не понимаю…
— Она не понимает, — многозначительно повторил Александр Афанасьевич.
— В девятом «в», — жестко сказал Петр Анисимович, — налицо неприглядные факты морального разложения.
Лена сжала ладошками горящие щеки.
— И носителями этого разложения являются Шагалов и Звягина.
Лена наконец поняла, о чем толкует завуч. Вскинула голову, посмотрела на него удивленно.
— Какое же у них разложение, Петр Анисимович! Они ж дружат! Весь класс знает!
— Гм… Я так и предполагал, что весь класс знает. Не спорю, может быть, между Шагаловым и Звягиной ничего такого и не было. Но суть. Колесникова, не только в фактах и, я бы сказал, не столько в фактах, сколько в тенденции! И когда девятиклассники начинают заводить нездоровые шашни, писать вот такие записочки и пошленькие мещанские стишки своему «предмету», это очень и очень опасная тенденция. И с ней мы должны бороться дружно, сообща. Колесникова, вырывая ее с корнем, как больной зуб. Ведь что значит это самокопание в себе? — Петр Анисимович потряс над головой листками, исписанными мелким почерком Виктора Шагалова, — Это безумная, преступная растрата духовных сил. — Петр Анисимович уставился на Лену Колесникову, будто гипнотизировал ее. — Вокруг подобных фактов надо создавать общественное мнение, Колесникова. Вот поэтому я и пригласил тебя. Мы тут посовещались и решили переписку Шагалова со Звягиной предать гласности. Пусть будет наглядным примером для других неустойчивых, если таковые в нашей школе еще имеются. Полагаю, что ты, как секретарь, согласишься с этим? — Петр Анисимович взглянул на часы. — На большой перемене необходимо будет прочесть по школьному радио вместо обычных новостей письмо и стишки Шагалова. Разумеется, с соответствующими комментариями. Возьмешь это на себя. Колесникова.
— Но ведь это… это нечестно — читать без разрешения автора.
— Ерунда. Раз они написаны…
— Но ведь они не для радио написаны! Я не буду, Петр Анисимович… Это нечестно — читать чужие письма.
— Ты забываешься. Колесникова. Ты — секретарь комитета ВЛКСМ! С тебя спросят!
— И пусть спрашивают! — твердо ответила Лена и сама удивилась своей дерзости. Словно раньше маячили перед тобой руки противника, не давали сделать бросок, а вот теперь впереди только кольцо — бросай!
Петр Анисимович побагровел.
— Хорошо, Колесникова, мы поговорим на эту тему в другом месте. Но прошу преждевременно не сообщать никому. Это — комсомольская тайна.
— Таких тайн не бывает, Петр Анисимович, — сказала Лена, вставая. — Не бывает комсомольских тайн от комсомольцев.
— Долиберальничали, — сказал Александр Афанасьевич.
— Пойдемте, — повернулся к нему Петр Анисимович. — Сейчас звонок. Я сам выступлю. Лично. А с тобой. Колесникова, мы еще поговорим.
Петр Анисимович вышел в сопровождении Александра Афанасьевича.
Лена двинулась было следом, но остановилась, прижала ладошки к пылающим щекам и заплакала.
Виктор долго никак не мог уразуметь, о чем говорит Костя. А когда понял — побледнел.
— Ты ничего… не перепутал?
— Да нет же. Я не знаю, что они затевают. Но только «этот» и Оленькина мать сейчас у моего… то есть у завуча вашего, у Петра Анисимовича. Был разговор о каких-то письмах. Ты Оленьке писал?
Виктор кивнул.
— Ну вот…
— Плюха! — крикнул Виктор. — Позови Звягину!
— Сейчас, — Плюха стремительно понесся по коридору, расталкивая гуляющих.
Виктор и Костя молчали.
Плюха привел Оленьку, крепко держа ее за руку.
— Пусти, медведь, — вырывалась девушка. — Что за манера!
— Ты показывала мое письмо? — спросил Виктор.
— Кому?
— Не притворяйся, — сказал Виктор, задыхаясь. — Я писал тебе, только тебе.
— Я никому ничего не показывала, Витя. Что случилось?
— Она ни при чем, — сказал Костя. — Они собирались что-то взламывать.
— Что взламывать? — Оленька ничего не понимала, смотрела на всех по очереди испуганными глазами.
В это время к ним подбежала Лена. Лицо у нее было вспухшим от слез.
— Чего ревешь? — спросил Плюха.
— Ой, мальчики! Сейчас твои стихи по радио читать будут. Мне велели выступить. Только я отказалась. И все. Пусть лучше из комсомола выгонят.
— Как это читать?
— Просто. Ты ей стихи писал?
— Ну.
— Вот их сейчас и прочтут.
Захрипели репродукторы в коридоре. Что-то щелкнуло. Потом раздался голос диктора Володьки Короткова:
— Внимание, говорит радиоузел школы. У микрофона заведующий учебной частью Петр Анисимович.
Виктор сжал кулаки и бросился по коридору к лестнице. Плюха побежал за ним.
— Ребята, — произнес голос Петра Анисимовича. — Мне хочется сегодня поговорить с вами о моральном облике ученика нашей трудовой советской школы. И не случайно. Некоторые старшеклассники, предполагая себя достаточно взрослыми, скатились в топкое болото мещанства. Когда-то в старину доморощенные поэты писали барышням в альбом пошлые стишки. И вот один из наших комсомольцев…
Что-то загремело, загрохотало в репродукторе…
— Петр Анисимович, отдайте письмо, — раздался голос Виктора.
— Шагалов, что ты себе позволяешь? Или ты думаешь, что у нас в школе анархия и каждый делает все, что захочет?
— Это вы делаете, что захотите. Немедленно отдайте письмо, слышите? Немедленно. Я требую!
— Он требует! — насмешливо откликнулся завуч.
Тихо стало в школьных коридорах. Ребята с удивлением прислушивались к странному диалогу.
— Если бы вы не были седым, — задрожал от ярости голос Виктора, — я бы ударил вас. Сейчас же отдайте письмо!
— Ребята! — раздался спокойный голос Петра Анисимовича. — Сейчас я прочту вам письмо — стихи, которые Виктор Шага… — В репродукторах что-то щелкнуло, и они смолкли.
Оленька прижала руки к груди, будто придерживала сердце. Лицо ее стало белым-белым. Косте показалось, что девушка сейчас упадет, он шагнул к ней, готовый подхватить, но Лена опередила его, обняла Оленьку за плечи, сочувственно шмыгнув носом, сказала:
— Не расстраивайся.
Из толпы вынырнула Сима Лузгина, метнула ревнивый взгляд на Лену, спросила:
— Чего это они там?
— Борьба титанов, — вздохнул Костя.
Оленька повела плечами, сбрасывая Ленины руки, и, ни на кого не глядя, убежала.
— Что произошло, мальчики? — спросила Сима.
— Нечто среднее между всемирным потопом и извержением вулкана, — пошутил Костя, хотя ему было совсем не весело. Где-то в глубине души таились неловкость и досада. Ведь это его отец, прикрываясь, как щитом, своим возрастом и положением, хотел ударить беззащитного из-за угла. В этом было что-то позорное, постыдное, и частица позора как бы ложилась и на него, на Костю. А Витька парень! «Если бы вы не были седым, я бы вас ударил!» Не каждый сможет. Костя мысленно поставил себя на место Виктора. Нет, не каждый.
В коридоре появились Виктор и Плюха. Они шли плечо к плечу, ни на кого не глядя. У Виктора в кулаке зажаты злополучные листки. У Плюхи кровоточила левая ладонь. Он нес руку бережно, на весу.
— Где это ты? — спросил Костя.
Плюха растерянно улыбнулся.
— Об лампочки, понимаешь. Кокнул я лампочки в усилителе.
— Кокнул?
Плюха кивнул.
— Иди промой руку, — сказала Лена.
— Обойдется.
— Заражение схватишь.
— Они не заразные.
Сима достала из кармашка передника носовой платок, перевязала Плюхину ладонь. Глаза у нее при этом были очень жалостные.
— И прекрасная дама пролила бальзам на его смертельные раны, — невесело усмехнулся Костя. — Ну, я пошел.
— А где?.. — спросил Виктор. Он не назвал имени, но все, кроме Симы, поняли, о ком он спрашивает.
— Убежала куда-то, — ответил Костя.
— Пойдем, Плюха, — повернулся Виктор к товарищу, и они пошли в класс.
А Петр Анисимович в это время выхаживал по своему кабинетику мимо сидящего на стуле Александра Афанасьевича. Шаги его, размеренные и деревянные, были как стук метронома. Он не повышал голоса, не терял выдержки, которая, по его твердому убеждению, была его отличием от прочих смертных.
— Теперь мы сами могли убедиться, к чему приводит снижение требовательности, игра «во взрослых». К ослаблению дисциплины, к проявлению пошлых и низменных инстинктов, которые некоторые наши деятели педагогики стыдливо именуют пробуждением чувств.